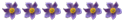не зал и не палуба
потомок по прямой
Пт Дек 05, 2014 12:28
Про это надо, пожалуй, здесь.
Юльке нравится рассказ Чехова "Шуточка". Она не раз об этом говорила, и я однажды нашла время освежить в памяти давно читаную новеллу.
Как же я смеялась...
- Юлец, - сказала я дочери, - вещь, безусловно, неземной красоты, и я однажды с ней поработаю отвёрткой, потому что нельзя вот так безнаказанно морочить голову моей малолетней детке. Но прямо сейчас как мать и как женщина я-таки обязана тебе сообщить, что лирический герой - негодяй. Насвистел в уши Наденьке и трусливо смылся.
- Он научил её кататься с горки, - безмятежно ухмыляется дитя.
- Но так и не сознался, - назидательно поднимаю я перст, пытаясь не ржать.
- Ну... кто сказал, что Наденька не знала, - хихикает ребёнок, - не идиотка же она в самом деле.
- Тем непригляднее его действия, - замечаю я, продолжая хранить материнскую серьёзность, - она, может, ждёт и надеется, что он преодолеет робость, даёт ему шанс, а он так и линяет навеки, свалив всё на ветер.
- Да и пофигу, - так же безмятежно говорит дитя, - зато классно было... нужен он ей, можно подумать...
- Ты вообще в курсе, что этот крендель - прямой потомок Гришки Печорина? - замечаю я.
- Да ну, - соменевается девушка, знакомая с Григорием только по "Бэле", - тот совсем другой.
- Уверяю тебя, - говорю я, - вот просто-таки клянусь. Прямой литературный потомок. Прямее некуда.
И вот что я деточке своей на днях расскажу.
В 1886 году, Антоша Чехов, журнальный автор двадцати шести годиков от роду, послал в редакцию "Сверчка" рассказец "Шуточка" за подписью Человек без селезёнки. В ответ на нытьё редактора, что мало пишет и другим лучше материал даёт. Была это первая версия, водевильная, где герой отпускал развесёлые шуточки а в финале вылезал-таки из кустов и женился на своей Наденьке.
Буквально вот так:
| Цитата: |
| Я выхожу из кустов, и, не дав Наденьке опустить рук и разинуть рот от удивления, бегу к ней и ...
Но тут позвольте мне жениться |
Прелестная забавная вещица. Напечатали и забыли.
К изданию двухтомного собрания сочинений Антон Павлович Чехов, серьёзный известный писатель тридцати девяти лет, данный рассказец переработал и превратил его в то, что он есть сейчас. Убрав хохмы, вставив паузы и отменив женитьбу.
Стыдно, Антон Павлович. Стыдно должно быть вам, как русскому классику и взрослому дяденьке за эти вот лирические катания. Вас же дети читают, ей богу.
Ладно, Мишель: оторва-поручик двадцати пяти лет от роду. Ему хоть как-то простительно и по возрасту нормально.
Но вы-то! Вы-то куда? Да вы посмотрите на себя, очкарик вы косолапый... герой-любовник, етить... демон-искусатель... Стыдоба как есть.
И критик вот тоже переживал сильно:
| Цитата: |
| Обратив внимание на необычность ситуации в «Шуточке», А. Басаргин (псевдоним А. И. Введенского) взывал к читателю с «тревожными» вопросами: «...зачем, хотя бы и в шутку, доставлять другому человеку поводы к напрасным страданиям и сожалениям о невозможном? <...> Зачем это страдание? Зачем эта игра с чужою душой? Кто дает человеку на это право?» |
...гм...вам не кажется, что это вот всё где-то уже было?...
Нет, Антон Павлович, это решительно невозможно. Такое впечатление, что прочтя в юности "Тамань", вы сами с собой спорнули на пончик, что когда-нибудь сможете так же. Ну, вы смогли. Ну, молодец. Довольны ли вы?
Дивной красоты вещь у Антона Павловича получилась.
Просто вот ни отнять, ни прибавить.
"...подзреваются всё те же двое: я и ветер"...
Освежите в памяти, девочки.
И оцените по свежим следам: насколько всё это музыкальный и смысловой парафраз лермонтовских мотивов.
Кто не помнит, осторожно: там горка крутая.
Скрытый текст: |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
|
На сайте с 24.06.09 |
ооо, это прелестно, спасибо. особенно через 15 минут после Лермонтова.
|
| Вернуться к началу |
|
Weblog style by Hyperion