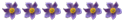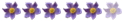| Автор |
Сообщение |
Мрия
Человек Земли 2012


На сайте с 01.12.05
В дневниках: 950
Откуда: Шлюз, Н-ск
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 9:38

Введение
Мотив выбора темы: В течение жизни волею судьбы мне неоднократно приходилось сталкиваться с беременными и родившими женщинами на протяжении почти 20 лет. Размышления над сакральным смыслом процесса рождения привели меня к выводу, что сама физиологическая основа процесса удивительным образом соответствует инициации. (Инициация — обряд, знаменующий переход в новый статус в родовом обществе, обычно сопровождаемый различными испытаниями.) Поскольку в процессе родов происходит смена статуса с женского на материнский, а сами испытания предопределены физиологией процесса, то даже при потери обрядовой стороны этого действа оно не может пройти незамеченным для становления женской личности. Мне хотелось бы попытаться найти предпосылки и возможности рассмотрения родов под таким углом зрения в истории психологии.
Актуальность: В условиях уменьшения желания женщин иметь детей, смены парадигмы размножения с много на малодетность мне бы хотелось рассмотреть вопрос о роли родовых переживаний женщины в становлении ее личности, зависимость ценностной ориентации от родовых переживаний и протекания беременности и родов в зависимости от ценностной структуры личности.
Цель работы: На примере рассмотрения инициации материнства в родовом процессе вскрыть работу современных патологических механизмов размывания гендерной специфичности, закладывающие в обществе инфантилизацию населения, искажение как материнской, так и отцовской роли, приводящие к демографическому кризису общества и к личностному кризису членов общества.
Задачи исследования:
1. Роды, как инициация материнства. Раскрытие понятия инициации, как процесса преобразования личности, резкой смены смысловых установок.
2. Понимание родов как женской инициации способствует становлению материнской роли женщины.
3. Понятие материнства как творческой самореализации женщины, необходимой для развития ребенка.
Роды, как процесс женской инициации
Инициация — процессс трансформации в становлении личности.
Инициация(лат., initio «начинать, посвящать, вводить в культовые таинства», initiatio, «совершение таинств, мистерий»),— переход индивида из одного статуса в другой, на новый социальный уровень, и мистический обряд, оформляющий этот переход. Обряды инициации также называются переходными или посвятительными обрядами. В психологическом смысле инициация возникает тогда, когда человек осмеливается действовать вопреки природным инстинктам и открывает в себе возможность движения в направлении к сознанию. Сложность обрядовых церемоний предполагает переключение психической энергии от рутинных занятий на новое и необычное дело. С инициируемым происходит онтологическое изменение, что позднее находит свое выражение в осознанной перемене внешнего статуса. Важно отметить, что в процессе инициации субъект приобщается не к знанию, а к тайне. Инициация подразумевает преобразование психики: отмирание менее адекватных и неактуальных для условий жизни и возрождение обновленных и более соответствующих новому статусу инициируемого. Особенность структуры этих обрядов — их трёхчастность: все они состоят из выделения индивида из общества (т. к. переход должен происходить за пределами устоявшегося мира), пограничного периода (длящегося от нескольких дней до нескольких лет) и возвращения, ре-инкорпорации в новом статусе или в новой подгруппе общества. Здесь мы сталкиваемся с трансформацией, изменением, поэтому сами ритуалы так таинственно-пугающи. При этом инициация осмысляется как смерть (или принесение в жертву собственного «Я») и новое рождение, что связано с представлением о том, что, переходя в новый статус, индивид как бы уничтожается в своём старом качестве, переходный период знаменуется временной утратой своего «Эго», и обретением нового «Я», более подходящего для нового социального статуса. В психической жизни индивида инициация занимает важное место, и внешние церемонии соответствуют психологическому образцу изменения и роста. Ритуалы или обряды попросту оберегают человека и общество от дезинтеграции, в особенности, когда в них происходят глубокие внутренние и всеобъемлющие изменения. По Юнгу инициации «отличаются от природного процесса тем, что ускоряют естественный ход развития и заменяют спонтанное возникновение символов сознательно укомплектованным набором символов, предписанных традицией» [61. С. 85—86].
Термин «инициация» был введен антропологами в конце XIX, начале XX века вначале для описания инициации мальчиков-подростков в мужчины. Зигзимунд Фрейд рассматривал инициацию как разрешение Эдипового комплекса, как выведение мальчика из власти женщины под власть отца [52, 50]. В дальнейшем было выяснено, что подобные обряды существуют и для женщин. [30, 31] Тендрякова в своих работах разделяет разные обряды перехода на возрастные переходные обряды, приурученные к определенному возрасту или событию и собственно инициации, как переходные обряды, во время которых происходит не только смена социального статуса, но происходит посвящение в сакральные тайны. Инициация, как переход в число брачноспособных, имела целью подготовку молодёжи к производственной, общественной и семейной жизни и, как правило, сопровождались тренировкой, различными, часто мучительными испытаниями, операциями (обрезание, рубцевание, выбивание зубов и др.), посвящением в тайны и мифы племени. [14]. В обыденном сознании наиболее распространено представление об инициации как об обряде перехода из детского во взрослое состояние, поскольку этот обряд наиболее исследован, через него, как правило проходят почти все члены общества, где он практикуется и он достаточно открыт для внешнего изучения, но уже в начале XX века Арнольд ван Геннеп ввел более широкое толкование инициации, как ритуала перехода на разных стадиях и в разных группах. «Инициация была одним из «ритуалов перехода», сопровождающих наиболее значимые социально-личностные изменения в жизни человека: рождение, взросление, брак, роды, зрелость, смерть и пр. “Выражение "ритуал перехода" показывает, что человек перешел с одного уровня своего опыта на другой. Совершение ритуала перехода говорит о социально признаваемом праве на изменение или трансформацию — праве вступить на новый уровень своего развития...” (Э. Эрриен). Т.е., как бы сдать экзамен на новый уровень своей личностной и социальной зрелости и получить новые инструкции для правильного прохождения новой стадии жизни» [8]. «Обычно под инициацией понимают совокупность обрядов и устных наставлений, цель которых — радикальное изменение религиозного и социального статуса посвящаемого. В терминах философских посвящение равнозначно онтологическому изменению экзистенциального состояния. К концу испытаний неофит обретает совершенно другое существование, чем до посвящения: он становится другим... Посвящение вводит неофита одновременно и в человеческое общество, и в мир духовных ценностей» [58. С. 13]. «Обряд перехода» — это определенные ритуальные, подчас мистически окрашенные действия, выполненные как над отдельным человеком, над группой лиц или даже целыми культурами, «в целях трансформации личности, ее духовного перерождения, обеспечивающего переход на более высокий уровень функционирования» [18].
Психологи отмечают, что у современного человека существуют проблемы социальной адаптации, связанные с «отсутствием в современной европейской культуре разработанных механизмов перехода от одной социальной ситуации существования к другой» [43. С. 7]. Обращаясь к Юнгу можно отметить, что он видел опасность невротизации современного общества в связи с отходом от трансцендности ритуалов, которые позволяли человеческой душе обрести целостность: «Наш мир диссоциировался, разложился как невротик» [60]. Юнг отмечал тот факт, что инициация тесно связана с исцелением; т. е. когда психологическая ориентация изживает свою полезность, но не получает возможности трансформироваться, она начинает разлагать и заражать всю психическую систему. По сути дела, лечение и инициация в древности во многом совпадали как по форме, так и по содержанию. Но результатом неуспешной инициации становится смерть, либо духовная, либо реальная, то есть, речь идет о потере себя как личности, утраты связи с другими людьми. И в современном мире единственная возможная помощь, которую можно получить «является анализ бессознательного, используемый врачом в терапевтических целях» [61. С. 72]. Насколько такая помощь полноценно может заменить инициацию — вопрос проблематичный. В своей диссертации Фирсова А. М. берется утверждать, «что устойчивость культуры и ее жизнеспособность во многом обусловлена тем, насколько развиты структуры, определяющие ее единство и целостность, а обряды и ритуалы инициации и есть один из важных элементов этих структур. Именно на эти (интегрирующий и стабилизирующий) аспекты функционирования культуры направлено действие механизма инициации в традиции, в основе которого лежит стереотипизация опыта… Безусловные (биологические) процессы преобразуются в условные (символические) категории, и в то же время, сам ритуал (квинтэссенция условного) функционирует как единственно возможный (безусловный) способ поведения» [49. С. 10].
Исходя из классификации Тендряковой «смена социального статуса и четко прослеживающаяся переходная структура — все это объединяет возрастные инициации со всеми обрядами перехода» [43. С. 15], но есть ряд различий. Если «переходные обряды как родильные, брачные, похоронные связаны с реальными событиями в жизненном цикле человека, констатируют и подчеркивают свершившиеся перемены» [43. С. 15], то « в обрядах инициации ситуация ломки старой социальной позиции и поиск новой создаются искусственно» [43. С. 15], и в них происходит «допуск к эзотерическим знаниям» [43. С. 15]. Таким образом родинный обряд относится к так называемым обрядам перехода, который фиксирует смену статуса (переход от просто женщины к матери), но не дотягивает до обряда инициации, так как нет передачи сакральных смыслов. У меня есть сомнения, что с точки зрения психологии, есть смысл в подобном разделении, так как и в простом возрастном/событийном обряде перехода, так и в инициации происходит трансформация личности и переход ее на другой уровень существования. Что потверждает Фирсова: «Инициация, как сакральное действие, в первобытной культуре играла в жизни женщины не меньшую роль, чем в жизни мужчины. Существенные различия в проведении обрядов перехода возникают лишь в связи со специфическими составляющими в жизни женщины в социуме…» [49. С. 17]. И сама Тендрякова подчеркивала: «Универсальность же его [обряда] видится в том, что инициации выступают как особый механизм взаимодействия культуры и личности. Они обеспечивают личностный рост и обретение человеком своего нового «Я» путем приобщения индивида к тайным знаниям определенной социальной групы и включения его в эту группу» [43. С. 30—31]. Смысл разделения может быть только в том, что инициация — это тот обряд перехода, который событийно формируется обществом специально для перевода членов в другой статус в отличии от обряда перехода, который событийно случается. В любом случае «в таинствах можно увидеть систему смыслов и ценностей, регулирующих жизнь данной социальной группы. В ходе возрастных инициаций эти знания превращаются в индивидуальные смыслы и ценности посвящаемого, преобразую его как личность» [43. С. 11]. Что согласуется с пониманием ритуала Костяевым: «В процессе любого ритуала человек обычно встречается с отнологическими вопросами и находит собственные ответы на них в рамках существующей культуры, таким образом индивид включается в культуру и культура воспринимает в себя индивида» [24].
К тому же «хотя женщина в своем развитии должна совершать практически те же переходы, что и мужчина, но физиологическая обусловленность этих переходов несравнимо жестче... Для женщины же первая менструация и климакс — два действительно шоковых момента, четко разделяющие ее судьбу, радикально отрезающие ее от всей прошлой жизни. Мы знаем, что именно эти физиологические процессы так часто являются спусковым механизмом невроза. Так же физиологичны, привязаны к телесности и другие моменты критических женских переходов — дефлорация и рождение ребенка. Рождение нового человека, разумеется, запускает процесс перехода и у мужчины, но для него отцовство — чисто психическая трансформация, тогда как женщина перестраивается и психически, и физиологически. Для мужчины этот переход обусловлен в основном социально, а для женщины социальные аспекты материнства, безусловно, вторичны по отношению к телесно-инстинктивным…Следствием такой телесной ориентированности явилась индивидуальность женских инициаций» [40]. О том же писала и Мид: «Когда люди рассматривают свое биологическое наследие и ту степень, до которой оно определяет их жизнь, тут же выясняется, что женщины в этом хуже всех поддаются перевоспитанию. Зачатие и рождение — такие же неподатливые фазы жизни, как сама смерть. Примирится, прийти к соглашению с ритмами женщин — значит придти к соглашению с жизнью, как таковой, воспринимая в первую очередь приказы тела, а не повеления искусственной, созданной мужчинами, пусть и трансцендентально прекрасной цивилизации. Следование преимущественно мужскому ритму работы подчеркивает безграничность возможностей; следование женским ритмам подчеркивает определенность и ограниченность того, что доступно» [31. С. 172].
И в этом отношении родинный обряд — достаточно полноценная инициация, чей сакральный смысл пока еще не достаточно изучен как этнографами, так и психологами.
«Уже самое поверхностное знакомство с литературой по родинному обряду показывает отсутствие в отечественной науке обобщающих работ по этой теме и немногочисленность исследований с углубленным изучением различных аспектов ритуала. Этот факт еще более примечателен на фоне множества работ — от конкретных описаний до исследований наиболее общих теоретических вопросов, посвященных другим ритуалам жизненного цикла — свадебному и погребальному. Подобную ускользаемость, непритягательность данной темы для взора исследователя нельзя считать простой случайностью. При сопоставлении с другими переходными ритуалами родины, а точнее — их внешнее выражение, отличаются бедностью, немногословностью, обращенностью внутрь. В самом деле, трудно себе представить ситуацию, когда бы сообщение одного из корреспондентов Программы Тенишевского бюро о том, что “особых обрядов при рождении нет”, можно был отнести к браку или смерти. К этому же сравните другое свидетельство: “Сведений о родинных обрядах не удалось получить, потому что обряды эти составляют профессиональную тайну деревенских повитух”» [7. С. 9—10].
Недавние женские исследования [57] показывают, что сама сущность данного обряда предписывала именно эту потаенность, которая актуализировалась только в связи с беременным состоянием женщины.
Удивительным для меня было то, что глубинное переживание родов практически не затронуто в психологической литературе. Перенатальная психология в основном завязана на изучении беременности [8], на смысловом конфликте между профессиональными и материнскими ценностями. В возрастной психологии женские инициации связываются с моментами ухода из семьи (свадьбой) (переход девушка — женщина) и уходом детей из семьи (переход женщина — старуха). [19, 37] Хотя при личном разговоре Римма Павловна согласилась с тем, что роды — это безусловно иниционный процесс, но почему-то в своей книге [19] она переход Женщина — Мать вообще не рассматривает.
Более пристальные этнографические исследования свидетельствуют, что «в свадьбе “круговой” путь является характеристикой мужского текста (текста жениха), в то время как женский текст (невесты) имеет “линейный” (усеченный) характер. До полной (“круговой”) схемы женский текст достраивается лишь в родинах (при этом характерно, что мужской текст, полностью выраженный в свадьбе, в родинах практически отсутствует). Появляется соблазн рассматривать свадьбу и родины, как единый обрядовый комплекс (по крайней мере, для женщины)» [5. С. 8]. То есть для женщины свадебный обряд является преддверием родового, и может рассматриватся как единый, только после которого женщина окончательно перестает быть сакральной, включается в общество. К тому же кроме обряда перехода в ситуации родов сопровождается и переплетается с обрядами защиты, и с обрядами, связанными с включением младенца в род, племя. Возможно наряду с потаенностью это тоже объясняет то, что родовой обряд малоизучен.
Несмотря на свидетельство Тендряковой о том, что «…в современной культуре нет институтов, помогающих человеку найти себя в новых жизненных условиях, институтов, аналогичных по своим социально-психологическим функциям первобытным инициациям» [43. С. 30] существуют свидетельства, что в современном мире обрядовость действия продолжает сохраняться [9, 57]. Только если ранее смысл обрядовых действий — «унижения и оскорбления, которым они [женщины] подвергаются» [9. С. 341] был понятен обществу как понижение иницианта в статусе, отделение его от общества, то ныне такое понимание утеряно. Елена Белоусова считает, что поскольку родильный обряд является обрядом перехода, «повышением социального статуса иницианта» [9. С. 342], то для «этого он должен символически умереть и затем вновь родиться в более высоком статусе» [9. С. 342]. Соответственно применение инвективы по отношению к беременной связано с процедурой вживания ее в роль инициируемой, для которой должна быть характерна «пассивность и беспрекословное послушание, покорное принятие нападок, ругани и оскорблений» [9. С. 346]. В то же время ей отмечается, что нельзя «сказать, что медики используют инвективу в указанных целях сознательно. Создается впечатление, что не только мать заучивает таинство имманентно, но и сами посвятители действуют неосознанно, не задумываются о способе своего поведения, о цели своих действий, но как будто бы влекомы мощным невидимым потоком традиции. Они тоже знают посвятительное таинство имманентно, они как бы в трансе. В этом смысле об инвективе нельзя говорить как о собственно педагогическом (т. е. осознанном) приеме» [9. С. 347]. И поскольку смысл данного обрядового действия становится недоступен, то и действие, оказываемое им не достигается. Возможно более осознанное представление рожениц о родах, как о процессе инициации, ставшее доступным общественному сознанию, оказалось бы гораздо более эффективным для нормального течения родов, чем неосознанное использование инвективы.
В то же время сакральность происходящего очень сильно выражена у домашних, или самоназывающих себя духовных акушерках.
Молли Калигер: «Роды — процесс не механический, они начинаются глубоко в психике женщины, и оттуда идут все гормоны, которые помогают родить ребенка. Надо свою психику смотреть, ЛЮБЯ, и стараться работать над теми проблемами, которые все таки до сих пор остались.
Роды учат подчинению и принятию, через терпение и смирение. Они дают нам возможность этому учиться, чтобы применять добродетели в нашей жизни. Бог дал женщинам возможность рожать для того, чтобы они учились принимать не свою волю, а Его.
Роды даются поэтапно. На каждом этапе женщина учится принимать, отдавать, и не сопротивляться, — затем начинается новый этап, еще тяжелее, чем предыдущий. Пока не накопится критическая масса одного этапа, она не проходит в следующий. Чем легче она принимает процесс, тем быстрее он идет.
Роженица "умирает", она жертвует свое “Я” и становится частью только общего божественного. Это происходит очень постепенно, так, чтобы к концу родов, когда раскрытие полное и ребенок начинает опускаться, она уже находится “не в мире сего”, будто она соединилась с Богом. В этот период она дремлет между схватками.
К тому времени начинаются настоящие потуги, и она уже способна с ними работать, она уже, фактически, наполовину переобразована. Родив ребенка она сама умирает как девица, и рождается как мать.
Вот самая страшная реальность родов: мы встречаемся, лицо к лицу, наши недостатки, наши страхи. Сопротивление схваткам исходит от эгоизма: нежелание принять другого (в конце концов, волю Божию). Это выражается как упрямство, раздражительность, гнев, нетерпение, даже ненависть.
Женщины, воспитанные в духе добродетелей и в страхе Божием, рожают легче, так как они привыкли применять определенный настрой во всем. К сожалению, большинство современных женщин воспитаны в другом: удовлетворение желаний, сильное выражение собственной “Я”, — защита своих “прав” (которая учат найти виноватых). Роды даются ТОЛЬКО ВАМ, для Вашего собственного душевного развития.
Как должна вести себя акушерка?
Акушерка должна сама иметь представление о родах как процесс для развития души женщины. От этого следует все ее поведение. Ее задание — способствовать преобразованию роженицы, НЕ УКРАДЯ ОТ РОЖЕНИЦЫ ту самую трансформацию! Акушерка, получается, сама проходит процесс, похожий на роды, — с такими же требованиями. Она должна также "умирать", не выставлять свое "Я" в центр внимания, и НЕ ПЕРЕВЕСТИ СВОИ представления и уроки на опыт роженицы. Она должна отдавать и СЛУЖИТЬ У НЕЕ НОГ. Это требует чуткое внимание, чувствительность к индивидуальности каждой роженицы, и умение мягко и любя поддерживать так, чтобы женщина преобрела уверенность и спокойствие» [взято с форума http://www.vis-vitalis.ru/forum/viewtopic.php?t=406]
Элизабет Дэвис «Сердце и руки»: «основная работа акушерки заключается в том, чтобы сделать все возможное для физического расслабления и духовного спокойствия матери. Помимо чисто медицинских навыков и приемов, ее искусство состоит в умении вызвать доверие, интуитивно создать энергетическую связь с женщиной. Самым точным инструментом акушерки являются ее руки, с помощью которых она “чувствует” и исцеляет своими прикосновениями. Всегда заботливая и бесконечно терпеливая она ждет, ждет и ждет, сколько это потребуется. Опытные акушерки часто говорят об экстраординарной способности рожающих женщин знать о том, что будет лучше всего для нее самой и ребенка. В этой связи они никогда не забывают спрашивать мнение матери в кризисных ситуациях о ее ощущениях, о том, как наилучшим образом облегчить процесс родов. До самого конца акушерка должна быть наготове, затем отступить, дать свершиться чуду рождения и благополучно встретить новорожденного».
Понимал это и Мишель Оден: «когда рожающая женщина двигается и действует, повинуясь инстинктам, оказывается, что она ведет себя в высшей рационально, и в этом случае роды чаще всего бывают легче и быстрее, чем у женщины, не подчиняющейся своим инстинктивным желаниям» [34. С.15].
Еще ждет своего часа исследование, которое бы могло помочь разобраться исходя из сохранившихся элементов обрядности какой смысл несут родины в современном обществе, каким образом они программируют превращение женщины в мать, какие смыслы оказались утерянными и как это может сказываться на воспитании детей.
|
| Вернуться к началу |
   |
|
Мрия
Человек Земли 2012


На сайте с 01.12.05
В дневниках: 950
Откуда: Шлюз, Н-ск
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 9:39

Смена социального статуса (женщина — мать)
Материнство — одна из основных социальных ролей женщины, та роль, которая заложена в ней биологически и важна для сохранения человечества, как вида. Я думаю, что роль матери в жизни, воспитании и становлении ребенка переоценить трудно. Считается, что в взаимоотношениях матери и ребенка формируется так называемая привязанность, качество которой очень важно для новорожденного. «Исследования показывают, что психосоматическое равновесие ребенка тесно связано с взаимодействием ребенка и матери. Хроническая нехватка привязанности приводит у ребенка к нервной анорексии, рвоте, бессоннице, частому срыгиванию, ослаблению иммунной системы. Напротив, тесный телесный контакт способствует чувству безопасности и приводит к уменьшению страха и тревоги.» [48. С. 15] Один из вопросов, который давно интересовал исследователей — что же это за силы, которые так неудержимо притягивают мать к ребенку и ребенка к матери? Во второй половине XX разгорелась горячая дискуссия между сторонниками преимущества социальных факторов и теми, кто придерживался убеждения, что привязанность подчиняется во многом тем же врожденным механизмам, которые роднят человеческий вид с животными. Понятно, что для ребенка установление и поддержание контакта с матерью является жизненной задачей, и соответственно привязанность может рассматриваться как приспособительный механизм вида, увеличивающий шансы на выживание. Рассматривая формирование привязанности с точки зрения биологических механизмов, можно сказать, что оно многокомпонентно и, как правило, синхронно, но можно искусственно разделить процесс взаимодействия матери и ребенка на условные составляющие, чтобы понять: какие стимулы получает ребенок от матери и что такое получает мать от ребенка, что вызывает их взаимную любовь: со стороны матери — это такие факторы, как прикосновение, контакт «глаза в глаза», голос, запах, ощущение кожи с кожей, определенный ритм общения и взаимодействия с ребенком, преодоление рассинхронизации ритмов, повторное совмещение биоритмов; со стороны ребенка — это контакт «глаза в глаза», запах, вокализации и крик, своим требованием питания и сосанием ребенок продуцирует выброс гормонов у матери, которые приводят ее в состояние, наиболее гармоничное для удовлетворения потребностей ребенка, его «ответ» на обращение с ним стимулирует мать продолжать взаимодействовать с ребенком [12. C.55]. Таким образом, вполне очевидно, что «процесс образования привязанности между матерью и ребенком происходит синхронно, с участием всех сенсорных систем матери и ребенка и очень зависим от обоюдных реакций обратной связи» [12. C.55].
Забота о рождении полноценного потомства, способного чувствовать себя счастливым, адекватно взаимодействовать с противоположным полом, конструктивно решать возникающие жизненные задачи начинаться даже не с периода зачатия, а задолго до того, как принято решение стать родителями. Можно сказать, что полноценность роли родителя, и в частности мастерство в исполнении материнской роли закладывается на протяжении нескольких поколений. Так как только передаваемое из поколение в поколение желание иметь детей, умение рожать без особых проблем и умение чувствовать своего ребенка и воспитывать в нем желание самому стать родителем — это залог благополучия как семейных, так и детско-родительских отношений.
В этом аспекте интересен предложенный Эриксоном термин «генеративность», который включает не только процесс воспроизводства, но и потребность человека в заботе о ребенке и ответственность за его воспитание. «Генеративность — это прежде всего заинтересованность в устройстве жизни и наставлении нового поколения, хотя существуют отдельные лица, вследствие жизненных неудач или особой одаренности в других областях деятельности, не направляющие этот драйв на свое потомство. И действительно подразумевается, что понятие генеративности включает в себя такие более распространенные синонимы, как продуктивность и креативность, которые однако не могут заменить его» [59. С. 252]. Эта заинтересованность в становлении и охране последующего поколения возникает в каждом человеке по мере развития тесных, глубоких, открытых отношений в семье, в том числе сексуальных, и тогда двое людей превращаются в пару, готовую выполнить свои обязательства в отношении воспитания здоровых в психологическом отношении детей.
Можно сказать: «на протяжении беременности вызревает не только плод в утробе матери, но и сама мать, та часть личности женщины, которая в последующем будет выполнять материнские функции» [13. С. 82] Но трудности, проблемы вызревания и возможные пути решения этой ситуации закладываются ранее.
Можно назвать ряд факторов, которые позволяют судить о вероятности возникновения или отсутствия проблем во время беременности и родах [20]:
- положительно окрашенный, значимый прообраз материнства, желание иметь детей, установка на них;
- положительный отклик на факт зачатия, на шевеления во время беременности;
- нежность к зарождающейся жизни, чувство любви и сострадания к ребенку.
Относительно ценности материнства речь может идти только о возникновении модели материнства своей матери как субъекта, испытывающего определенные эмоции в ситуации взаимодействия с ребенком. Можно допустить, что ребенок, по крайней мере в конце раннего возраста, воспринимает отношение других к своей матери, как имеющей ребенка. Позднее включается оценка самой матерью отношения к себе других, как к матери, рефлексия дочерью степени удовлетворенности матери своим материнством. Все это входит в модель материнства собственной матери и ее соотношение с семейной и культурной моделями.
Возникновение и развитие ценности ребенка происходит в два этапа сначала в процессе освоения эмоционального смысла взаимодействия с самим ребенком возникает ценность самого себя как ребенка. Отсюда берет начало переживание значения контакта взрослых с собой, общения, заботы о себе и т.п.
Все умения ухода за детьми будущая мать неосознано срисовывает с поведения собственной матери и других исполнителей материнских функций и эти действия могут рассматриваться как семейная модель. От матери в большей степени зависят стиль эмоционального сопровождения и общий стиль тактильного контакта с ребенком. «Именно в период беременности актуализируются те установки, поведенческие и социокультурные стереотипы, которые будут определять тот или иной тип материнства» [13. С. 82]. Очень часто молодая мама в ситуациях, когда она растеряна, воспроизводит тот стиль материнского поведения, который был характерен для ее матери по отношению к ней.
Во взаимодействии с теми, кто имеет облик младенца (большие глаза, голова, неуклюжесть движений, высокий голос и неразборчивый лепет) и наблюдении за таким взаимодействием других взрослых образуется ценность ребенка для себя. Это развитие связано с ценностью себя как ребенка и может вести как к появлению стремления к взаимодействию, так и к ревности, ненависти, брезгливости и т.п. Носителями облика младенца могут быть разными: другие дети, детеныши животных, игрушки, предметы обихода с соответствующими изображениями и т.п. Следует признать, что в современном обществе все большая доля приходится на игрушки и предметы обихода (то есть объекты-модели), гораздо меньше объектов — животных, самих младенцев, встречаются объекты — взрослые, которые сами демонстрируют во взаимодействии инфантильные черты, и другие взрослые проявляют к ним соответствующее отношение, но, видимо, меньше всего настоящих объектов — детей младенческого возраста. «При обследовании беременных и матерей в женских консультациях и детских садах г. Москвы оказалось, что многие из них увидели впервые вблизи младенца и имели с ним контакт после полового созревания, а часто это был их собственный ребенок» [48. С. 156].
Накоплено достаточно данных, что существует зависимость легкости родоразрешения в череде поколений. Если мама, бабушка матери рожали легко, то большая вероятность, что и у нее самой роды пройдут легко. С точки зрения С. Грофа — это связано с пренатальными матрицами [15], запечатленными роженицей в момент рождения. Последователи сценарного подхода упирают на воспроизведение сценария. Если женщине в семье внушается, что у нас в роду роды легкие, то вероятность легких родов для нее выше.
В сюжетно-ролевых играх в дочки-матери и в семью происходят конкретизация и развитие некоторых компонентов материнской сферы. По логике развития самой сюжетно-ролевой игры первоначально возникают сюжетно-отобразительные действия (кормление куклы, укачивание), а затем принятие на себя роли матери. Проживание в роли состояний своего персонажа идентификация с ним, моделирование в игровых ситуациях реальных событий из жизни дает возможность «отработки» не только мотивационных основ, но и умений материнства. Условность игрушки позволяет свободно разыгрывать различные ситуации, наделять куклу разными свойствами и способностями, помогая формировать свой собственный образ младенца и способы взаимодействия с ним.
В игре с куклой участвует и отношение взрослых как к самим куклам, так и к играм с ними. Конкретное влияние на развитие эмоционального отношения к ребенку можно усмотреть только в особенно ярких случаях извращения отношения взрослых, когда им либо неприятен вид игры, либо они поощряют или не замечают возможных садистских элементов в игре: выкалывание глаз, поломки и т.п.
Значение, которое придавалось кукле в народной педагогике, свидетельствует об осознании связи игры в куклы с развитием материнства. В России кукла передавалась от матери к дочери, специально изготовлялась для дочери. Куклу наряжали к празднику, вывозили в гости, на смотринах невесты она служила доказательством готовности девушки к роли хозяйки и матери. Эти традиции помогали сохранять и поддерживать культурную и семейную модели материнства. В современном обществе на этом этапе развития полноценной замены усмотреть не удается, поскольку в играх с куклой происходит смещение с куклы-младенца на куклу-даму, где уже идет отработка совсем других ролей.
В психологии отмечается также важность для женщины опыта взаимодействия с младенцами в детском возрасте, так называемое «няньченье». [48. С. 20.] Результатом такого опыта является, помимо освоения некоторых навыков обращения с ребенком, появление к нему интереса и положительно-эмоционального отношения.
Этап няньчания имеет достаточно четкие возрастные границы. Он начинается примерно с 4,5 лет, когда хорошо развита сюжетно-ролевая игра, и заканчивается к началу полового созревания. Наиболее сензитивным является возраст от 6 до 10 лет. К этому возрасту уже сформированы реакции на компоненты гештальта младенчества, их объединение на объекте-носителе, есть представление о специфике взаимодействия взрослых с младенцами и его обыгрывание с моделью-куклой. Дети хорошо дифференцируют возрастные характеристики других детей, в их собственном развитии появляется произвольность, предвосхищающая функция эмоций, планирование и способность отвечать за свои поступки. Именно в среднем дошкольном возрасте, освоив взаимодействие со взрослым в процессе ситуативно-делового общения, дети проявляют стремление к участию в «настоящей» деятельности взрослых, и помимо желания у них есть уже для этого определенные возможности.
В культурах, где в качестве нянек используются старшие дети, им в возрасте от 5—6 до 8—9 лет доверяют младенцев после полугода. По мере взросления, вступления в подростковый период мальчики начинают участвовать во взрослой деятельности мужского населения, и с младенцами могут играть уже только во время отдыха, а девочки начинают активно участвовать в домашнем хозяйстве, продолжая опекать «своего» младшего и частично помогать ему в няньчании вновь появившихся младенцев. Естественный перерыв в родах у человекообразных обезьян составляет 4—5 лет, в примитивных культурах, где большая часть заботы о ребенке приходится на мать, этот разрыв примерно такой же.
При распределении материнских функций в традиционных культурах в этапе няньчания можно выделить два периода. Первый характеризуется налаживанием эмоционально-личностного общения и совместных игр с младенцами первого полугодия, а второй — осуществлением элементов заботы и ухода за младенцами второго полугодия и детьми раннего возраста. Последовательность этих периодов позволяет «наложить» необходимость заботы на уже имеющееся эмоциональное отношение, а соответствующее возрастным особенностям старших детей распределение материнских функций — удовлетворить их потребность в сюжетно-ролевой игре и участии во взрослой деятельности, без форсирования ответственности за жизнь и здоровье малыша.
«В современных нуклеарных семьях Европы и Америки дело обстоит иначе. Детям дошкольного возраста, у которых наблюдается наиболее явный интерес к младенцам без выраженного страха перед их беспомощностью, обычно не разрешается непосредственный контакт. Их чаще привлекают к «технической» помощи родителям, и они становятся сторонними наблюдателями взаимодействия матери с младенцем, где яркие эмоции членов диады воспринимаются как недоступное для себя удовольствие. Техническая сторона ухода таким образом выхолащивается, неизбежное уменьшение собственного эмоционального общения с родителями, их погруженность в удовольствие от младенца и недоступность этого для старшего ребенка служат прекрасной почвой для появления чувства ревности и формирования ценности ребенка и потребности в заботе по «уклоняющемуся» от оптимального пути. Понятно, что для ребенка помладше (до начала возраста, сензитивного для няньчания), в силу его возрастных особенностей, хорошо ясен смысл взаимодействия матери с младенцем, ощутимо уменьшение внимания и любви родителей к нему самому и недостаточно освоены собственные переживания относительно гештальта младенчества и их носителей. Это также способствует появлению чувства ревности, влияющего на образование эмоционального отношения к младенцам, ценности ребенка и материнства» [Филлипова. С. 165].
У детей подросткового возраста интересы смещаются в сторону интимно-личностного общения со сверстниками и познавательной деятельности, а позже — в сторону полового развития. Однако в современных западных семьях именно этих детей считают уже способными к самостоятельности и ответственности в уходе за младшими. Без предварительного закрепления эмоционального отношения к младенцам и в случаях неадекватного их возрастным интересам перераспределения материнских функций у подростков формируется отношение к ребенку как обузе и помехе. Характерно, что реакции на разные компоненты образа младенца при этом различаются. Качества, относящиеся к милому облику и инфантильным движениям, становятся предпочитаемыми, то есть детьми любуются, а вот физиологическая незрелость функций и инфантильная результативность, требующая наибольших затрат со стороны носителя материнских функций, отвергается, ребенок вызывает раздражение своим плачем, криками, требованием внимания.
Если до окончания этапа няньчания опыта взаимодействия с младенцами не было, то часто возникает страх перед ними, так как подростки, а тем более взрослые оценивают имеющийся у них опыт как недостаточный для взаимодействия с маленькими детьми. Наиболее часто возникает страх повредить ребенка неумелым обращением, некомпетентностью в уходе и т.п. Это первое впечатление корректируется в случае дальнейшего участия в уходе за ребенком, однако впоследствии женщины его очень хорошо помнят. Если контакт был кратковременным, то страх перед младенцами сохраняется на всю жизнь и постепенно исчезает только на опыте взаимодействия с собственным ребенком.
Полное выпадение опыта няньчания до полового созревания может привести к восприятию ситуации взаимодействия взрослых с младенцами как неестественной, неприятной; выражаемые взрослыми эмоции, особенности их речевого общения с младенцем воспринимаются как неуместные, раздражающие. Поведение и вид младенца не вызывают никаких положительных эмоций, нет стремления к контакту, прикосновению. Разумеется, опыт, получаемый на этапе няньчания, как и любой другой, не является изолированным. Он возникает на уже имеющейся основе и в дальнейшем преобразуется другими формами опыта. Однако качественные и количественные характеристики этого этапа развития материнской сферы логически связаны с семейной, культурной и материнскими моделями материнства и детства. Именно в оформлении взаимодействия старших детей с младенцами эти модели проявляются во всех своих особенностях. Поэтому этап няньчания является наряду с первым из выделенных этапов развития наиболее важным в формировании материнской сферы.
Если же до полового созревания переживания от тактильного контакта с ребенком не сформировались и не конкретизировались на нем как объекте материнской сферы, то путь их перевода в контекст реальной деятельности «остается свободным». Половое развитие, подкрепленное в этот возрастной период мощным гормональным обеспечением, «переводит на себя» значение тактильного контакта и все ощущения эрогенных зон. В дальнейшем их возникновение при взаимодействии с ребенком может переживаться как шокирующее, несовместимое с ситуацией и т.п. Существенно влияют на это особенности представления о возможном восприятии детьми половых отношений взрослых. Совмещение компонентов ситуаций, относящихся к половому поведению и к ребенку, собственный детский опыт относительно половых отношений взрослых и т.п. могут повлиять на развитие материнского чувства весьма необычным образом Возможно ограничение тактильного контакта, купирование переживания экстаза кормления и другие особенности. К кому из детей такое отношение матери будет выражено ярче — к сыну или дочери, зависит от семейной модели супружеских отношений и собственного опыта развития половой сферы.
Исчезновение запрета на внебрачные половые связи, снижение возраста вступления в половые отношения, наряду с увеличением возраста зависимости от родителей, множественность моделей поведения в современном обществе и многое другое делают развитие ценностей материнства в период полового созревания необыкновенно сложным.
Собственно от того, насколько адекватно произошло развитие этих ценностей существенным образом влияет на успешность родов, субъективное переживание боли во время схваток, а также отражает общее отношение к беременности, будущему ребенку, своей новой роли матери [10, 11, 12, 13, 21, 29, 35, 36, 46, 56, 48]. Поскольку «эмоциональное состояние матери во время беременности оказывает значительное влияние на протекание беременности и родов, последующее отношение к ребенку и к себе, а также на становление его самосознания, формирование сугубо человеческих качеств» [13. С. 82], а эмоции во многом зависят от системы наших ценностей. Встречаются различные мнения по поводу того, какое отношение к родам принимать за «оптимальное»: «сладостные роды», «роды без боли», «роды как второе рождение женщины», «роды как путь самореализации», «роды как активный процесс творчества» и т.п. Но зачастую пренатологи, несмотря на декларацию своих целей как подготовки родителей к обеспечению физического и психического здоровья ребенка, готовят их именно к родам, как к конечной цели, а не к тому, что роды — это определенный, хотя и важный этап в жизни ребенка и его родителей, который на самом деле является началом их реальной совместной жизни. В результате такой позиции не дифференцируется отношение женщины к самим родам — и к ребенку и себе как матери в целом, что иногда приводит к нежелательным моментам в родах. Практика показывает, что «наиболее оптимальным вариантом является отношение к родам, которое можно выразить формулой: “роды — трудная творческая работа”. В этом случае женщина настроена на длительную, тяжелую работу, готова к переживанию боли, осознает, что в родах необходима ее активность, однако главным считает не сам процесс, а его результат — рождение ребенка» [48. С. 190].
В современных условиях нередко зачатие и рождение ребенка происходит в семьях либо слишком рано, на фоне романтической влюбленности и еще до принятия осознанного решения жить с конкретным человеком, либо мотивация к деторождению носит в определенной степени невротический характер: избежать одиночества, завоевать или удержать партнера, заполнить внутреннюю пустоту, обеспечить себе заботу в старости и т.д. В результате «на протяжении беременности неразрешенный внутренний конфликт по поводу материнства, который почти универсален у женщин с высоким образовательным уровнем, по психосоматическим механизмам может приводить к различным последствиям, угрозам прерывания беременности, увеличению числа самопроизвольных абортов, внутриутробному дискомфорту плода, различным психологическим и акушерским осложнениям беременности, родов и послеродового периода, а также более поздним нарушением отношения матери к ребенку» [46. С. 16].
Помимо эмоционального аккомпанемента, на упрочение ценности ребенка и образование конкретно-культурного варианта интерференции ее с другими ценностями влияет изменение социального и семейного статуса матери в связи с рождением ребенка в обществе. Наиболее это выражено в тех культурах, где статус жены и матери является различным. Например, в исламе женщина как жена — сосуд греха, существо второго сорта, для нее необходимо руководство мужчины. Женщина-мать, напротив, высший идеал, эмоциональные связи сохраняются пожизненно именно с матерью, ее статус в семье и обществе очень высок. С рождением ребенка она переходит в эту категорию. Кроме семейного и социального статуса, дети обеспечивают и связь с внешним миром, очень ограниченную для женщины в ортодоксальных исламских семьях. В культурах, где женщина ведет более активную социальную жизнь, наличие ребенка младенческого возраста служит причиной перераспределения ее жизнедеятельности таким образом, что она в достаточной мере обеспечена видами деятельности, связанными с личными удовольствиями (уход за ребенком и общение с ним), и ограничена в тяжелых работах. К ней проявляется повышенное внимание, обеспечиваются поддержка, защита от неприятных переживаний, вообще создаются наилучшие условия. В западной же современной модели материнства ребенок часто воспринимается, как нечто ограничивающее свободу матери, требующее дополнительных психологических и физических сил, материальных «вливаний», в общем как помеха и обуза, которая возможно и может дать состояние некоторого счастья, но только в результате больших усилий.
В каждой культуре есть целый институт материнства, который в качестве составной части включает в себя способы воспитания женщины как матери. Эти способы рассчитаны на то, что часть содержаний своих функций мать будет осознавать, а часть — нет. Соответственно, в общественном сознании также не все функции матери полностью осознаются, часть из них представлена в форме поверий, примет, суеверий и т.п. Все это вместе может быть охарактеризовано как конкретно-культурный «путь к модели» материнства, которое само по себе есть инструмент, созданный природой и обществом для «производства» ребенка как представителя своего вида и своей культуры. В обществе постоянно происходят изменения модели материнства и детства, соответствующие изменению в самих общественных отношениях. Изменяется и отношение женщины к своей роли матери. В современных условиях эти изменения настолько стремительны, что имеющийся «путь к модели» материнства, складывающийся в общественной практике в течение десятков тысяч лет и включающий в себя способы формирования у матери наряду с осознаваемыми — неосознаваемых ни ей самой, ни обществом материнских функций, не успевает измениться соответствующим образом.
В современном западном мире с момента осознания и внутреннего принятия себя беременной у женщины обнаруживается противоречивое отношение к беременности. С одной стороны — гордость за свою полноценность, возможность самореализации, приобретения женственности, переживания идентичности собственному полу, и в то же время — страх и беспокойство, порожденные фантазиями и социально навязанными установками.
Происходит это потому, что логика материнско-детского взаимодействия требует изменений в регуляции психической деятельности матери. Она должна частично отказаться от сознательных способов регуляции своей деятельности и пользоваться интуицией и своими эмоциями, поскольку от нее требуются «пребывания в специфическом состоянии, позволяющем ей естественным образом и без явного осознания взаимодействовать с другим субъектом, у которого еще нет не только сознания, но и развитых, дифференцированных способов взаимодействия с миром вообще» [48. С. 213]. Ей необходимо ориентироваться на свои эмоции, по которым она чувствует состояние ребенка. Кроме того, ей предстоит осваивать в совместной с ребенком деятельности способы эмоционального общения с ним. Концентрация на ребенке, способность изменять свое состояние непосредственно вслед и по причине изменений его состояния, нечувствительность к возможным влияниям со стороны представлений и ожиданий, уводящим мать от переживания стимуляции от ребенка, обеспечивают то необходимое соответствие эмоций матери контексту взаимодействия, которое создает для них обоих эволюционно ожидаемые условия. Другими словами, для матери важно не прогнозировать последствия, а быть с ребенком, «здесь и теперь». Доминирование в сознании матери представления о последствиях ее поведения для будущего ребенка, всегда связанных с ее конкретной моделью ребенка как будущего взрослого, «заслоняет» непосредственную стимуляцию от самого младенца, что приводит мать в растерянность и делает невозможным адекватно отреагировать на наличную ситуацию. Конечно, совсем без осознания в общении с младенцем не обойтись. Однако, известно, что в беременности под воздействием гормональных изменений эмоциональная сфера женщины становится более лабильной, импульсивной. В то же время женщина становится очень чувствительной к нарушению эмоционального комфорта и стремится избегать неприятных переживаний. Лабильность и склонность к положительным эмоциям, связанным со своими состояниями и соматическими переживаниями, позволяют быстро переключаться на то, что сейчас наиболее приятно, и поддерживать это состояние. Импульсивность способствует ситуативному следованию за стимуляцией от ребенка. Повышенная эмоциональная чуствительность необходима для эмоционального взаимодействия с ребенком и непосредственного переживания его состояний. Интересно, что все эти характеристики сами по себе соответствуют особенностям эмоциональной сферы ребенка. То есть уже в беременности происходит «эмоциональная инфантилизация» женщины, необходимая ей впоследствии для выполнения сложной и ответственной задачи ухода за ребенком.
В этом отношении интересны изменения в речевом поведении, связанные с общей инфантилизацией поведения и эмоциональной сферы. Речь всегда отражает эмоциональное состояние. При поведении, имитирующем детские черты, речь приобретает особенности, близкие по интонационному составу, расстановке пауз, изменению грамматической структуры, повышению тона голоса и т.п. к речи ребенка. Эти же особенности присущи речевому поведению, в простонаречии называемому «сюсюканием», которое используется при общении с ребенком. Помимо участия в развитии операционального состава материнской сферы, эти характеристики речи создают стимульную среду для развития у ребенка избирательности к речевому поведению взрослых в будущем.
Постепенно увеличивающаяся в течение беременности концентрация интересов матери на ребенке, снижение интереса к другим областям жизни в совокупности с переходом на интуитивный стиль интеллектуальной регуляции деятельности создают картину сужения содержаний интеллектуальной сферы и ограничение использования дискурсивного мышления. Исследования показали снижение чувствительности к логическим противоречиям у беременных в третьем триместре [11. С. 38—47]. На самом деле «речь должна идти не о регрессе интеллектуальной сферы, а о концентрации ее на определенных содержаниях и ориентации на интуитивный и эвристический способ обработки информации. Исследования в психологии мышления именно эти особенности позволяют отнести к творческим способностям. Общее повышение творческого потенциала отмечается у беременных, начиная со второго триместра (в практике психологической подготовки к материнству)» [48. С. 215].
В это же время происходит психическая перестройка самосознания женщины с постепенным включением в него образа ребенка. В этот момент будущей матерью переживается симптом принятия новой жизни в себе. Он характеризуется надвигающейся ответственностью за судьбу ребенка, снами, мечтами и фантазиями о нем.
Особенности материнско-детского взаимодействия также требуют не только импульсивности и перехода на чувственный уровень регуляции. Необходимо и соответствующее отношение к матери и ребенку членов семьи и общества в целом. Этому способствуют некоторые инфантильные черты внешнего вида и поведения будущей матери, прогрессирующие в беременности. Необходимость защиты, повышение зависимости от членов общества в обеспечении пищей, создание благожелательной атмосферы, способствующей благополучному течению беременности и развитию отношений матери с ребенком, оцениваются многими исследователями как специфически человеческие особенности материнства. Еще до осознания обществом всех тонкостей влияния на мать этих обстоятельств изменение отношения к беременной стимулировалось присущими ей теперь инфантильными чертами как во внешнем виде (изменение пропорций тела и лица, цвета и упругости кожи и т.п.), так и в поведении (элементы поведения зависимости, требования внимания, выражения лица и речи). Инфантильные характеристики эмоциональной сферы также могут быть отнесены и к этим признакам.
Все эти особенности осознаются в современном обществе не только окружающими, но и самой женщиной. Но положительные аспекты этих изменений — обогащение субъективного опыта женщины, ее общее психическое развитие, освоение новых форм интуитивной регуляции взаимодействия с миром и т.п. чаще всего недооцениваются. Свое собственное стремление пребывать в этом состоянии и получаемое от него удовольствие также могут пугать женщину. И очень часто могут расцениваться самой женщиной и обществом как общая деградация.
Поэтому в ситуации потребности в поддержке, женщина, подсознательно требуя особого отношения к себе, начинает манипулировать близкими. Перестройка ее психики в наибольшей степени влияет на изменение ее отношения к мужчине, который за несколько мгновений превращается в отца будущего ребенка, и оказывается под давлением всевозрастающих требований со стороны будущей матери. Большинство мужчин, подсознательно предожидая изменение социометрического статуса и свою «ненужность» (связанную с перспективой появления другого значимого человека в жизни своей женщины), на сознательном уровне скрывают вызванную этим тревогу, ревность, как социально неодобряемые чувства, реализуют свои новые ощущения в неосознанном избегании жены (своей женщины), повышенной раздражительности и ухаживаниями за другими женщинами. Таким образом, современная женщина оказывается лишенной мужской поддержки в тот момент, когда она больше всего нуждается в ней. Есть исследования, которые показывают, что «бессознательно почти каждая забеременевшая женщина обвиняет своего мужчину в недостаточном внимании к себе и будущему ребенку. Женщины часто высказывают сомнение в том, что отец будущего ребенка будет “гулять с ним”, “любить его так, как я” и т. п. Здесь проявляется опасение того, что все, связанные с беременностью и материнством испытания придется нести ей одной» [10. C.6].
Все это усугубляется еще и тем, что сейчас часто женщины во время беременности испытывают так называемый сенсорный голод, вызывающий повышенную раздражительность, нередко переходящую в агрессию, по отношению к окружающим, а в особенности к своему мужчине. Все это вполне может быть вызвано перестройкой эмоционально-интелектуальной сферы у женщины, но поскольку происходит на неосознаваемом уровне психики, то оказывается не вписанным на сегодняшний день в какой-либо внятный культуральный контекст. В данном случае уместно говорить о симптоме ощущения депривации, сопровождающимся духовным отчуждением. В психике женщины такое состояние часто ассоциируется с подростковым возрастом, когда многие из них испытывали чувство одиночества и оставленности, возникающее на почве отсутствия взаимопонимания с родителями.
Таким образом, осознание происходящих в себе перемен и их интерпретация могут осложнять естественный процесс развития материнской сферы, понижать ценность ребенка и создавать условия для усиления влияния «внедряющихся» ценностей из других потребностно-мотивационных сфер женщины. Современные тенденции изменения роли женщины в семье и обществе в этом отношении пока не могут считаться благоприятными.
Тем более, что на современном этапе познания многие элементы «культуры беременности, родов и ухода за младенцем» только описаны, но нет четкого понимания механизмов их работы, вариантов взаимосвязи между различными комплексами и не сформированы традиции преодоления противоречий, характерных для современных реалий.
«Центральным направлением работы с беременной женщиной должна стать помощь в перестройке и гармонизации ее личной структуры, то есть работа по достижению личностной готовности к родам. Начать необходимо с обсуждения вопросов мотивации родительства, выяснения того, что будет значить для женщины родившийся ребенок, какое место он займет в ее жизни. Только после осуществления такой работы можно надеяться, что полученные ею в ходе подготовки конкретные умения будут реализованы в процессе родоразрешения» [21. С. 95—96].
Наличие измененного состояния сознания, эмоциональный взрыв, экстатическое состояние, пиковые переживание в родах.
Для понимания как можно перестроить и гармонизировать личность женщины в процессе беременности и подготовки к родам важно понимание наличия трансовых состояний, характерных для любой перестройки и возникающие в любых обрядах и инициациях.
«Обряды перехода» в той или иной форме встречаются во всем мире, практически во всех культурах. В принципе любой ритуал есть осмысление данной культуры, при котором «смысловая структура ритуала рассчитана на внутреннюю работу субъекта» [24]. В процессе любого ритуала человек обычно встречается с отнологическими вопросами и находит собственные ответы на них в рамках существующей культуры, таким образом индивид включается в культуру и культура воспринимает в себя индивида. Маслоу в своих исследованиях по самоактуализации писал об опасности дериатулизации, когда люди перестают видеть в обыденности символику ценностей и добродетелей. Маслоу считал, что ценность примитивных культур и состоит именно в том, что они «сохранили сакральное переживание биологических данностей жизни» [28. С. 262].
Родины как ритуал фактически задавали женщины границы и смысловость ее материнской роли, то есть от этого ритуала зависил рисунок воспитания будущего ребенка. Происходило это через трансовые переживания, которые в родах физиологически обусловлены. «Самые рационалистические женщины могут утратить контроль во время родов и упиваться катарсической свободой выражения всяческих агрессивных чувств и порывов, им доступных как бы в оргаистическом состоянии» [35. С.499—500] Никем не обучаемые, женщины сами знали как себя вести и что делать. При родовом трансе женщина может достичь биологически заложенного в ней, поскольку это переживание глубже, чем индивидуальность, воспитание и культура. «Когда рожающая женщина двигается и действует, повинуясь инстинктам, оказывается, что она ведет себя в высшей рационально, и в этом случае роды чаще всего бывают легче и быстрее, чем у женщины, не подчиняющейся своим инстинктивным желаниям» [34. С.15].
Собственно приобретение человеком любого нового опыта сказывается на его поведение через трансформацию сознания в трансе, в котором происходит перерабатывание и уточнение системы смыслов, установок, на основании которых человек действует. «Главная терапевтическая ценность транса состоит в том, что он может избавить человека от жестких ограничений и тем самым сделать возможным переструктурирование и реорганизацию системы самоощущения» [53. С. 20].
Понимание Маслоу пиковых переживаний как явлений, связанных с ценностной ориентацией личности близко к пониманию транса, мистического переживания, состояния измененного сознания. Ульиям Джеймс [16. С. 297—298] выделял такие основные характеристики мистического опыта, как неизреченность; интуитивность, как особую форму познания; кратковременность; бездеятельность воли. Чарльз Тарт [42. С. 21—29], который в основном проводил наблюдения над состоянием измененного сознания, индуцированными наркотиками, отмечал еще такие признаки, как: возникновение крайних эмоциональных выражений (от экстаза до сильного страха или глубокой депрессии); изменения характера восприятия и мышления; изменение ощущений тела до потери самоосознавания; изменение смысла и значений, часто возникающее чувство абсолютного понимания, озарения и инсайта; нарушения чувства времени. Если сравнить с характеристиками пикового переживания, описываемыми Абрахам Маслоу [28. С. 70—88]: невыразимость полученного опыта с помощью обычной речи, восприятие некое большей абсолютности этого опыта (исключение из контекста реальной жизни); целостность и уникальность переживания; изменения характера восприятия и мышления; смещение смыслов и способность восприятия мира самого по-себе, вне контекста полезности; дезориентация во времени и пространстве; а так же личностную достоверность этого опыта, и понимание того, что воля находится во временном бездействии; превосходящие все, что мы знали раньше эмоциональные реакции; а также слипание разных дихотомий и разрешение конфликтов, полнота Бытия. У Маслоу есть прямое сравнение пикового переживания и мистического опыта, как имеющих «самоценный, оправдывающий свое существование момент, который обладает высокой внутренней ценностью» [28. С. 75].
Так что можно считать, что пиковые переживания, так же как любой транс — это момент реинтеграции человеческой личности, ее смыслов и ценностей, процесс смены старых и выработки новых установок. Общая функция установок любого уровня характеризуется следующими моментами: а) установка определяет устойчивый характер протекания деятельности и выступает как механизм стабилизации личности, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно изменяющихся ситуациях; б) установка освобождает субъекта от необходимости принимать решения и произвольно контролировать протекание деятельности в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях; в) (фиксированная) установка может выступать в качестве фактора, обуславливающего инерционность, косность динамики деятельности и затрудняющая способность к новым ситуациям [4. С. 405—406]. Что же касается специфических проявлений смысловых, целевых и операциональных установок в деятельности, то они прежде всего определяются тем, какое содержание — личностный смысл или значение — выражает установка в деятельности субъекта. У меня сложилось понимание установки, как психологическое объяснение физиологического механизма работы доминанты, который собственно и определяет происхождение и протекание этих процессов. Ведущий и определяющий уровень установочной регуляции — это смысловые установки, представляющие собой выражение личностных смыслов в виде готовности к определенной деятельности в целом. Высший уровень смысловой установки можно соотнести с Доминантой Души по Ухтомскому [45]. Асмолов соглашался с Узнадзе, что смена установок происходит в процессе деятельности, но подчеркивал, что в том числе и в деятельности общения, в которой выражаются те или иные смыслообразующие мотивы и которая служит основой для эмоциональной идентификации с собеседником, могут измениться личностные смыслы пациента. Причем такое понимание согласуется с пониманием диалога Ухтомскиким, где основной принцип — доминанта на Собеседнике. Если у человека доминирует свое «Я», он видит в других людях свою проекцию, «Двойника», по словам Ухтомского, или, как обычно говорят, «судит по себе». Эгоистичные люди не могут освободиться от своего «Двойника» и пробиться сквозь эту скорлупу самозамкнутости к другому, к Собеседнику. Они страдают от внутреннего одиночества и неспособны понять другого, каков он сам по себе, независимо от их собственного взгляда и отношения. Но если стараться отодвигать себя на второй план, а на первый ставить другого человека, то происходит перестройка души, постепенно вырабатывается «доминанта на другом» или «доминанта на Собеседнике», как называет ее Ухтомский. «Вот, если хотите, подлинная «диалектика»: только переключив себя и свою деятельность на других, человек находит себя как лицо!» [44. С. 385.]. Можно высказать предположение, что подобная перестройка души осуществляется в трансовых состояниях, и в частности в родовом трансе. По крайней мере у Маслоу в перечисление моментов, для которых точно характерно пиковые переживания включаются и роды: «Очевидно, что все аспекты пиковых переживаний не являются взаимоисключающими. Они не отделены и не дистанциированы друг от друга. В конечном счете все они являются различными ликами Бытия, а не его частями. Разнообразие этих аспектов выходит на первый план благодаря зависимости знания от тех ситуаций и операций, которые выявили его, например восприятие красивого человека или изумительной картины, переживание сексуальных чувств или любви, инсайта, момента творчества или родов и т.п.» [28. С. 78].
Если У. Джеймс свое исследование мистических состояний сосредоточил на высших мистических прорывах, когда происходит полная трансформация личности, Ч. Тарт в принципе искал только то общее, что характерно для любого измененного состояния сознания, то А. Маслоу в свои исследованиях видел, что между пиковыми переживаниями возможна разница в глубине и мощности переживаемого. Точно также, у Ухтомского есть понимание существования разноуровневых доминант, видимо ответственных за разные уровни установок: смысловой, целевой, операциональной установок и уровень психофизиологических механизмов-реализаторов. Ухтомский в своем учении о доминанте постулирует, что у человека в зависимости от необходимости срабатывают доминанты определенного уровня. Только все они выстраиваются в определенную иерархическую систему, где доминанта высшего уровня, актуализировавшись либо усиливает, либо подавляет более низкую доминанту. Понятие иерархии ценностей заложено также у Маслоу в его пирамиде потребностей.
Если рассматривать роды, как процесс, где необходимо привести женщину в такое состояние, чтобы она могла проявлять повышенную эмоциональную чувствительность к состоянию новорожденного, необходимую для понимания его состояний и способности откликаться на его нужды, то можно предположить, что родовой транс затрагивает очень большой пласт смыслов и ценностей в душе женщины. Так же учитывая, что благополучность родов зависит от всего предшествующего развития, от сформированности ценности материнства, и определяет очень многое как в общении матери с ребенком, так и в возможностях влияния на его развитие, то перестройка в родовом трансе связанна с достаточно глубинными структурами психики, с высшим ценностным уровнем. По Маслоу рождение ребенка затрагивает не только уровень принадлежности и любви, но и высший уровень самоактуализации.
«Рождение человека — это не только биологическое продолжение рода, но и важнейшее условие формирование самосознания и духовного развития личности родителя. В глубинах психологии рождения человека хранится его природная суть — образ Творца. Кого я воспитаю? Каким я вижу будущее своего ребенка? — эти вопросы относятся не столько к «Кого», сколько к «Я». Отвечая на них человек начинает осознавать отличие своего природного предназначения от кибернетического стиля существования, меру отклонения нравственного закона современной жизни от благодати вечного бытия» [25. С. 159].
Таким образом роды — это очень смысло-нагруженный, узловой момент женского становления, который определяется предшествующим развитием и определяет последующие наполнение жизни женщины.
|
| Вернуться к началу |
   |
|
Мрия
Человек Земли 2012


На сайте с 01.12.05
В дневниках: 950
Откуда: Шлюз, Н-ск
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 9:41

Роды как пограничная ситуация смерти и возрождения.
Еще с древнейших времен было замечено, что в родах для женщины характерно не совсем обычное, иррациональное состояние сознания. Женщину перед родами считали как бы стоящей на грани мира здешнего и тамошнего. Роды, в некотором смысле, тоже смерть. Беременная женщина, носительница двух душ, умирает, дав жизнь двум новым самостоятельным существам: матери и ребенку. Приближением к «смертному» состоянию объяснялись действия, совершаемые повитухой, роженицей и ее близкими: перед родами просилось прощение, как перед смертью; рождение происходило не в избе — а на краю — в бане, хлеве, само действие было потаенным, старались, чтобы кроме самых близких о событии никто не знал [55, 5, 6].
Важно, что сам обряд перехода основывается на ритуальном соприкосновении со «смертью-возрождением». «Структура “обряда перехода” совершенно такая же, как и структура переживания смерти в психоделическом состоянии и в холотропном состоянии, в состоянии реально пережитого околосмертного опыта у лиц, перенесших клиническую смерть, как и структура протекания родов и мифологическими сюжетами» [18].
Американский врач Р. Моуди [32] указывает, что пережитый опыт умирания производит, как правило, умиротворяющее воздействие, что после проживания опыта клинической смерти, жизнь становится глубже и содержательнее.
Ему вторит Лоуэн, о том, что познание и принятие страха смерти снимает давление с человека и делает его более человечным [27]. Он считает, что предельная честность, отказ от лжи, в том числе и в проявлении своих чувств, когда происходит их познание и принятие — вот путь к преодолению страха смерти.
Наблюдения Грофа [15] показали, что люди, прошедшие через психотерапевтический опыт холотропного дыхания, когда испытываются ощущения, связанные со смертью и повторным рождением, резко меняют свое представление о самих себе, об окружающем мире. Преображается присущая им иерархия ценностей, исчезает чувство отчуждения. Напротив, возникает чувство радости, безмятежности, психологического благополучия, рождается вкус к жизни. Такой человек лучше воспринимает мир.
По мнению Грофа, видения, возникающие в трансовом состоянии можно характеризовать как феномен, обращения к совокупному духовному опыту человечества, к врожденным тенденциям внутри коллективного бессознательного, которые Юнгом были названы архетипами. Люди, никогда не читавшие К. Г. Юнга, тем не менее воспроизводят описанные им образы «Великой Матери», «Ужасной Матери», «Космического века», «Золотого века». Архетипы направляют действия человека в определенное русло, в чем-то схожее с тем, каким образом вели себя в подобных ситуациях наши животные предки. Они обнаруживают себя в сознании в виде эмоций и некоторых других психических явлений и обычно связаны с такими важнейшими моментами жизненного опыта, как рождение и смерть, одиночество, основные стадии жизненного пути (детство, юность), а также с реакцией на смертельную опасность и психическими заболеваниями, такими как невроз или депрессия.
Именно за счет работы коллективного бессознательного у современного человека элементы религиозного опыта, в частности обряды посвящения «можно распознать и в реальных испытаниях, через которые он должен пройти в своих духовных кризисах, одиночестве и отчаянии, которые не минуют ни одного человека, стремящегося к ответственному, сознательному и творческому существованию» [58. C.317]. Но даже тогда, когда обрядовый характер испытаний посвящения более не воспринимается как таковой, очевидно, что человек не может стать самим собой, не разрешив ряд безнадежно трудных, подчас опасных ситуаций, где он подвергается опыту «заглядывания в глаза смерти» и пробуждается к другой жизни качественно другим. Поскольку, для современного человека «посвящение» не воспринимается как религиозное и сознательно принимаемое испытание, не ведет ни к радикальному изменению жизни посвящаемого, ни к его спасению, то оно перестает выполнять свою онтологическую функцию. Но несмотря на это, сценарии посвящения продолжают происходить в индивидуальном опыте психологического и жизненного плана. И поэтому можно сказать, что процесс посвящения сосуществует с жизнью каждого человека.
Не смотря на большое развитие медицины, роды продолжают оставаться смертельно опасными. И женщины продолжают испытывать страх перед ними. «На степень психической незащищенности женщин перед родами указывает то, с какой легкостью большинство из них соглашается на применение любых обезболивающих препаратов, не думая о возможных последствиях для ребенка» [10. C.6].
В той мере, в которой женщина в родах не столько зациклена на своих ощущениях, а сосредоточена на ребенке, открывается новому опыту терпения и самоконтроля, умению отказаться от собственного «Я» и отдаться процессу — от всего этого зависит легкость прохождения родов.
Все это наиболее удачно возможно только в ситуации, когда ценности материнства достаточно осознаны женщиной. При их становлении возникает характерная для беременности психическая перестройка самосознания женщины с постепенным включением в него образа ребенка. В этот момент будущей матерью переживается симптом принятия новой жизни в себе. Принятие своего нового образа, статуса, роли проникнуто основным чувством: «у меня будет ребенок», смешанным с опасением успешности будущего материнства. Вначале женщина осознает, что будет иметь ребенка; она как бы говорит себе: «Я не едина, я ношу в себе что-то». На следующем этапе происходит перенос доминанты с себя на будущего ребенка, появляется чувство гордости и единства с тем, кого она носит под сердцем. Для самой будущей матери вместе с ребенком вынашивается готовность к выполнению миссии материнства. Это вершинное переживание беременности является своеобразным индикатором восприятия, переработки и оценки женщиной опыта своего психофизиологического состояния. Он характеризуется надвигающейся ответственностью за судьбу ребенка, снами, мечтами и фантазиями о нем. Теперь, когда женщина точно определилась в своем желании иметь ребенка, она испытывает нарастающее нетерпение и возбуждение, связанные с уже надоевшей беременностью, стремление к ее окончанию.
Можно считать, что в момент родов, кульминации всего подготовительного этапа беременности в женщине просыпается архетип «Великой Матери», во всей ее неоднозначности. «С ним связаны материнские черты: проявление внимания и сочувствия; магический авторитет феминности; мудрость и душевный подъем, распространяющийся за рамки формальной логики; любой полезный инстинкт или импульс; все, что называется добротой; все, что дает заботу и поддержку, способствует развитию и плодородию. Это место магической трансформации и возрождения вместе с потусторонним миром и его обитателями находится под покровительством Матери. Из негативных аспектов материнского архетипа можно отметить все тайное, скрытое, темное; пропасть; мир мертвых; все, что пожирает, соблазняет и отравляет; все, что вызывает ужас и является неизбежным, как сама судьба» [60].
Женщина, успешно прошедшая инициацию родами, познавшая двуликость материнского прообраза, получает доступ к собственным творческим силам, становится воплощением животворного начала. Осознание мощи и нежности материнского начала дает возможность женщине по обстоятельствам употреблять те или иные аспекты образа Великой Матери, реагируя по ситуации, а не единственным известным способом. Такое преобразование полезно и ребенку, которому необходима мама, способная увидеть любую ситуацию с ребенком, не только через призму собственных представлений, а умея вжиться, ощутить истинные потребности малыша. То есть можно сказать, что «прикосновение» к архетипу расширяет границы собственного опыта, увеличивает ролевой репертуар личности, обогащает ее.
На данный момент нет работ, которые бы рассматривали взаимосвязь между родами и процессом индивидуации (по Юнгу — становлением собственной личности за счет преодоления диссоциации между архетипами, ее образующими). Юнг сравнивает стремление к индивидуации с процессом кристаллизации: «создается впечатление, что все личные препятствия и драматические перемены в судьбе, которые вызывают напряжение в жизни, были всего лишь сомнениями, робкими уклонениями, очень похожими на незначительные усложнения, и мелочные оправдания, чтобы прямо не столкнуться с завершенностью этого странного и таинственного процесса» [61]. Вполне возможно, что как факт предельной концентрации сил, архетипичности проживания процесса, роды оказывают очень сильное влияние на становление личности женщины.
Телесный аспект переживания процесса родов.
Одно из главных новообразований периода беременности у женщин является возникновение интрацептивного сенсорного опыта взаимодействия с плодом. Формирование этого опыта связано с тем, что, начиная со второй ее половины беременности, у всех женщин возникают естественные ощущения, непосредственно связанные с движениями формирующегося плода.
Исследуя отношения к беременным женщинам и родам Щепанская Т.Б. наткнулась на существование определенного символического языка который становится основой материнской культуры. И этот язык реализуется через образ тела, он телесен. «Живот — “опознавательный знак”, открывающий беременной путь в это сообщество. И доступ к его традициям, фольклору, информации. Мы имели возможность наблюдать, как именно живот является сигналом, по которому на беременную обрушивается поток советов и примет, т.е. ее постепенно превращают из испуганной неофитки в носительницу традиции. Это превращение окончательно закрепляется после родов, когда она получает статус “матери”, т.е. полноправной представительницы сообщества матерей. Роды, как женское посвящение, а беременность (первая в особенности) — как подготовка к нему» [57. С. 422].
Уникальное сочетание телесных и эмоциональных ощущений, ярко выраженная телесность дает женщине альтернативный способ разрешения тех внутриличностных конфликтов, которые принадлежат прошедшим стадиям развития, и как отмечает Д. Пайнз [36] оживают в беременности, как это бывает в любой кризисной точке человеческой жизни. и молодая женщина должна заново приспосабливаться к своему собственному внутреннему миру и к внешнему объектному миру. Суть этой адаптации женщины на пути к зрелости состоит в достижения устойчивого и удовлетворительного баланса между бессознательными фантазиями, мечтами и надеждами и реальностью отношений с самой собой, ребенком и окружающими.
Хорошо известно, что даже без обучения беременные женщины активно используют поглаживание живота и «уговаривание» ребенка, если считают, что он ведет себя неспокойно. Обычно матери, даже не анализируя специально двигательную активность плода и свое состояние, могут описать и характер шевеления ребенка, и свои переживания при этом. Эти ощущения можно счесть проявлением в телесности эмоционального состояния беременной, в зависимости от которого и происходит интерпретация. «Некоторые эмоции беременной, такие как уверенность, независимость, успех, ответственность, укрепляют общую для матери и внутриутробного ребенка приспособительную систему, другие — вина, тревога, страх, подавленность, чувство беспомощности — угнетают развитие младенца как впрямую (на относительно поздних сроках), так и косвенно (через конденсацию опыта родов у младенца, выношенного и рожденного такой матерью)» [56]. В исследованиях развития пренатальной общности как психологического феномена, было обнаружено, что оно подчиняется общим закономерностям становления детско-взрослых общностей, системы взаимоотношений, связывающих ребенка с матерью, а через нее — с культурным сообществом людей — и, вместе с тем, процесс возникновения предпосылок внутреннего мира ребенка как представителя рода человеческого. В исследовании Ю. Шмурак были выявлены и концептуализированы в нормативной модели этапы развития пренатальной общности, в которой становлению эмоциональной близости, единства (отождествлению) между будущей матерью и внутриутробным младенцем предшествует зачастую нелегкое расставание (обособление) с символическим значимым объектом материнского прошлого, который мог возникнуть как перед самым зачатием, так и в раннем детстве женщины. Под символически значимым объектом Ю. Шмурак понимает такого человека, на которого направлены чувства будущей матери; и от действий, чувств и слов которого, по убеждению этой женщины, зависит ее эмоциональное благополучие либо неблагополучие. Ю. Шмурак считает: «Успешное эмоциональное обособление будущей матери от символического объекта с помощью зрелых механизмов саморегуляции или построение таковых в контакте с пренатальным наставником создает основу для взаимодействия с нерожденным ребенком, порождают интерес к этому общению как к таковому, самоценному для матери, а не подчиненному иным мотивам». Это исследование показывает важность для матери не только проживания телесного ощущения плода, но и осознования собственных чувств, умения взглянуть со стороны на происходящее и дойти до понимания, что «внутриутробный ребенок — с самого начала человек, и именно мать отвечает за его благо».
Обычно, женщины субъективно выделяют ощущения от плода и сразу отличают их. Они подчеркивают их необычность, несравнимость ни с какими иными, ранее пережитыми телесными феноменами. Описывая эти естественные ощущения женщины, обычно прибегают к чрезвычайно образным сравнениям. Это особенно акцентировано в первое время, пока плод еще мал. Пытаясь передать свои ощущения, беременные рассказывают, как в начале они испытывают очень смутные, слабые, плохо локализованные «толчки», «неотчетливые перемещения». Для сравнения они используют, соответствующие своему настроению, метафоры: «как будто рыбка проплыла», «теплые волны», «мягкие прикосновения», «как будто слегка прикоснулся», «мягко зашевелился» и пр. Ощущения, которые испытывает беременная, обычно эмоционально окрашены в приятные тона. Беременные женщины рассказывают, как они постоянно «прислушиваются», с нетерпением ждут этих сигналов, наделяют их важным смыслом, как бы «медитируют» на этих ощущениях. Периодически возникающие шевеления оживляют у них поток фантазий, связанных с ребенком и будущим материнством. «Наблюдения показывают, что с момента начала шевеления у большинства беременных происходит своеобразное вслушивание в свою телесность, фиксация на своих ощущениях» [48. С. 25].
В практике педиатрии и акушерства в начале XX века возникает термин бондинг, означающий интуитивно-чувственный контакт матери и ребенка. Это биологический рефлекторный язык, который доступен только матери и ее ребенку, когда мать на уровне интуиции распознает потребности новорожденного и пути их удовлетворения. В основе чего лежит безусловное принятие ребенка. Такие отношения считаются базисом для дальнейших гармоничных родительско-детских отношений. На основе бондинга во Франции Францем Вельдманом для обучения беременных будущих матерей пониманию состояний ребенка по его движениям была разработана гаптономия — «язык прикосновений». Этот «язык» остается основным каналом связи с малышом и после его появления на свет. Гаптономический подход позволяет матери научится «общаться» со своим ребенком с момента шевеления, в так называемый коммуникативный период беременности, так же подобный подход позволяет матери научится в дальнейшем после рождения ребенка интерпретировать получаемые от него сигналы [17]. Обученные матери очень тонко различают характер двигательной активности ребенка и безошибочно определяют его эмоциональное состояние. «В одном таком исследовании мама «научила» ребенка к 7 месяцам отвечать постукиванием в свою ладонь сначала на пропевание мелодии, сопровождаемой отбиванием рукой такта, а затем только на один из этих стимулов, который она использовала как для инициации контакта, так и для успокоения ребенка при необходимости» [48. С. 74].
Кроме вслушивания в шевеления и научения «общению» с плодом, есть данные о том, что работа, включающая расслабляющую гимнастику с элементами хатха-йоги и телесно ориентированную психотерапию А. Лоуэна, эффективна для беременных [41]. При такой работе идет выявление мышечных зажимов. По мнению А. Лоуэна [27] люди плохо осознают, что происходит ниже шеи. Для него напряженный живот — это выражение страха, а боль — проявление перенапряжений в организме. И эти симптомы по мнению Швецова характерны для беременных с проблемами угрозы выкидаша и гипертонией [41]. Он проводит обучение глубокому диафрагмальному дыханию, используя этот метод для уменьшения стресса, так как для диафрагмального дыхания характерен удлиненный выдох, увеличивающий период релаксации, что способствует понижению артериального давления и снижению тонуса матки. По мнению Швецова в большинстве случаев тело лечит само себя, и после того, как женщины научились расслаблению пресса у них улучшилось состояние, снялся тонус матки и давление нормализовалось. Кроме того были зафиксировано облегчение таких симптомов, как агрессивность, раздражительность, нарушение сна, головные боли, запоры, страхи, боли внизу живота и пояснице [41]. Таким образом телесно-ориентированная терапия, внимание к расслаблению мышечных зажимов сильно способствует нормализацию течения беременности.
В исследованиях телесного кода, характерного для материнского сообщества Щепанская наткнулась на определенную границу и она пролегает «там, где пролегает грань между влечением и страхом по отношению к символике этого сообщества. Телесность беременности, родов, новорожденное тельце столь же “страшны” для непосвященных, сколь сладостны постигшим этот опыт» [57. С. 433]. Культура «не выпускает» телесный опыт материнства за пределы круга рожавших. Более того, опыт беременности и родов остается вне «я», за рамками личности, которая сформирована господствующей культурой, «не видящей» материнства, не озабоченной им. По мнению Щепанской, женщины не принимают своего тела, так как их социализация происходит в рамках мускулинной культурной модели. В большинстве случаев женщины вскоре после рождения должны вернуться к девическому образу: культура властно побуждает их к этому возвращению. Об этом можно судить хотя бы по непониманию среди современных женщин — каким образом висячие груди и полный живот может быть желанным для девушки, что характерно для африканской культуры, где статус женщины зависит не от ее девической привлекательности, а от выполнения ей материнской функции.
Кроме того можно заметить, что существует еще одна тенденция в западном обществе, где «акцент с удовлетворения потребности в потомстве переносится на получение наслаждения от полового акта, теряющего свой биологический смысл» [23. С. 116]. Поэтому-то совершенно не странно, что в таком обществе и женщины начинают «забывать» свое предназначение и не стремятся «обременять» себя потомством. Учитывая, что «“мужской статус” в азиатском мире, подчеркнем еще раз, задается количеством и психофизическим состоянием потомства» [23. С. 116], то и материнство для азиатских женщин — наиболее предпочтительный путь женского становления.
Учитывая рациональный характер современной цивилизации, когда происходит расщепление между желаниями тела и жестким контролем со стороны интериоризированных культурных запретов, многие люди испытывают невротическое напряжение, отделяют свое «Я» от тела. В таком обществе беременность и роды — наиболее биологически и физиологически заданные процессы испытывают трудности в своем протекании. «Роды, когда-то были естественным процессом и женщины умели помочь друг другу в час нужды. Но когда акушерство стало принятым методом и акушерка стала получать диплом, обычная женщина уже не допускается да и не может помочь во время родов» [47. С. 118].
Можно сказать, что научение успешному преодоленению родовой инициации принципиально важно для человечества. В его природе происходит забвение инстинктивных программ, переход на регуляцию через слово (вторую сигнальную систему). И в этом отношении новорожденное человеческое дитя можно сказать еще не человек, в том смысле, что у него как раз пока еще действуют именно инстинктивные программы и переход на регуляцию второй сигнальной системы ему еще предстоит. Поэтому так важна изначальная роль матери, чья задача как раз и заключается в умении ввести ребенка в мир человеческой культуры, поработав переводчиком между его инстинктивной животной частью и нарождающимся человеческим сознанием. Но для умения быть адекватным переводчиком матери необходимо уметь не только владеть словом, но и уметь чувствовать животное начало, понимать своего грудного младенца, его запросы и чаянья. Поэтому так важно умение вчувствоваться в телесность беременности и родов.
|
| Вернуться к началу |
   |
|
Мрия
Человек Земли 2012


На сайте с 01.12.05
В дневниках: 950
Откуда: Шлюз, Н-ск
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 9:43

Задачи становления материнства.
Можно утверждать, что период беременности и родов — это действительно узловой момент в становлении материнского аспекта женщины. «Беременность, как ни один другой период в жизни женщины, сопровождается глобальными изменениями и глубокой внутренней работой» [13. С. 83]. Происходит это в связи с тем, что женщина должна не только родить ребенка, но и после родов уметь осуществлять тонкую подстройку к новорожденному. Особенно важна «первая беременность, рывок от дочернего состояния к материнскому,— время эмоционального и психологического переворота. Однако, несмотря на эмоциональный кризис, который она провоцирует, это нормальная фаза развития и драгоценное время для эмоциональной подготовки к материнству. Во время беременности, особенно первой, оживают конфликты предыдущих этапов развития, и молодая женщина вынуждена разрешать их внутренне и внешне новым путем. Мы можем, таким образом, рассматривать первую беременность как кризисную точку в долгом поиске женской идентичности, как точку, из которой невозможен возврат» [36. С. 101].
Всегда ли эта точка невозврата проходится успешно? На сегодняшний момент можно сказать, что нет. Рост количества кесаревых сечений в родах, как плановых, так и экстренных, другие медицинские вмешательства — с одной стороны спасают жизнь матери и ребенку, а с другой женщина, становясь матерью, полной внутренней перестройки сознания, необходимой для адекватного отношения с ребенком, не получает.
«Сопоставление уровней эмоционального благополучия детей с особенностями материнского отношения показало, что высокий уровень эмоционального благополучия детей устойчиво сочетается с адекватным материнским отношением (принимающим, эмоционально-поддерживающим), а снижение уровня эмоционального благополучия, во-первых, всегда связано с отклонением материнского отношения от адекватного, а во-вторых, положительно коррелирует с выраженностью такого отклонения» [48. С. 56]. Можно ли утверждать, что есть зависимость протекания беременности и родов и дальнейшим взаимодействием матери и ребенка? Поскольку выше подчеркивалось, что роды — процесс во многом интуитивный, зависящий от сформированной к этому моменту системы ценностей женщины, а «непосредственно, неконтролируемая сознанием интуиция всегда работает на потребность, доминирующую в иерархии потребностей данной личности» [38. С. 170], то мне кажется разумным сделать заключение, что протекание родового процесса обуславливает дальнейший опыт общения с ребенком. И есть исследования, подтверждающие, что «определения уровня готовности женщины к материнству, позволяет прогнозировать ее последующее материнское поведение» и особенности психического развития детей имеют «корреляционную зависимость, как от типа материнского поведения, так и от уровня психологической готовности к материнству» [29]. В частности практика психотерапевтической работы с беременными показывает, что отсутствие патологий во время беременности и в родах, получение удовлетворения от первого опыта жизни с малышом в раннем младенчестве наблюдаются у тех женщин, у которых прослеживается определенная динамика отношения к ребенку во время беременности: от полной слитности с самой собой к осознанию его как отдельного существа, наделенного собственной субъективностью, о выстраивании системы коммуникации и понимания женщиной настоящих потребностей своего дитя, которые уже на уровне плода могут не совпадать с материнскими [13, 29, 56]. «Мы считаем, что к концу беременности у матери должна сформироваться психологическая позиция, которая будет способствовать принятию ею ребенка во всех его проявлениях, точному пониманию его индивидуальных потребностей и особенностей, осознанию ответственности за жизнь и развитие существа, находящегося с ней в со-бытии, придающем новый, особый смысл ее жизни. Именно эта позиция дает нам гарантию того, что мать не будет разочарована первыми трудностями жизни с младенцем и не откажется от него, узнав о физическом или психическом недостатке своего ребенка» [13. С. 84]
Именно перестройка смысловых основ личности женщины, устремленность своих интересов на ребенка еще во время беременности — это то, что позволяет в последствии ощутить полноту материнского счастья. Опыт родов — это «вхождение в духовную жизнь и освоение высших ценностей, таких как материнство, жертвенность, творческая реализация и нахождение высших духовных смыслов жизни и материнской любви» [1. С. 146].
Поскольку «современная медицина монополизировала контроль за процессами беременности и рождения, вычленив их из культуры и превратив в сугубо физиологические явления» [13. С. 82], не нуждающиеся в иных формах осмысления, кроме медицинского контроля, то произошла потеря значительного осмысляющего ситуацию слоя культуры и превращение беременности и рождения в событие, не поддающееся пониманию в границах индивидуальной истории. И для современного человека это не проходит безнаказанно: «пустоты на месте утерянных смыслов и ценностей требуют заполнения, порождают неврозы, фобии, психосоматические заболевания» [13. С. 82]. Что можно противопоставить такому дегумманизированному, лишенному ценностной, смысловой, психологической компоненты пониманию процесса? Как можно помочь женщине стать полноценной матерью? Я думаю, что внедрение в общественное мнение такого понимания родового процесса, как необходимого перерождения личности женщины, осознание ею, что ребенок «соединяет в себе часть материнских образов Собственного “Я” и ее сексуального партнера, но матери также предстоит увидеть в нем отдельного индивида» [36. С. 58], что «материнство выступает как особый вид деятельности — трансляция на индивидуальный уровень ценностей культуры» [13. С. 82]. Для этого необходимо прожить ситуацию беременности, с осознованием и разрешением тех конфликтов, которые порождены современными культурными установками на успешность профессиональной функции женщины, поскольку «чем выше у беременной женщины социальный и интеллектуальный уровень, чем более она независима и профессионально успешна, тем больше вопросов о смысле деторождения будет поставлено ею перед собой, тем труднее ей будет решиться стать матерью [10. C. 6]. И именно вот эта трудность выбора между различными ценностями — стать матерью, сосредоточив свои устремления на ребенке или получить самореализацию через профессиональную деятельность, сосредоточившись на себе — основная причина трудностей в протекании беременности и родов, которые являются прежде всего «экзистенциальной ситуацией, затрагивающей все жизненные основания женщины, обусловливающей глубокие изменения самосознания, отношения к другим и миру» [13. С. 83].
Творческая самореализация женщины в материнстве.
Становление и развитие системы взаимодействия матери с ребенком связано с определенной конкретной культурной моделью. М. Мид на основе своих исследований материнства и детства в различных культурах делает вывод [30], что каждая конкретная культура выбирает определенные черты характера и темперамента, присущие взрослому человеку, наиболее приемлемые в данной культуре, строит на их основе свою модель взрослого мужчины и женщины и создает систему воспитания ребенка, ориентированную на эту модель. В каждой культуре есть соответствующий способ воспитания родителей (в первую очередь матери), которые и являются основными «производителями» личности ребенка как члена своего, конкретного общества. Таким образом, можно говорить о конкретно-культурной модели материнства и детства и существующих в каждой культуре способах или путей «производства» этой модели. Ей вторит Э. Эриксон: «Всякое общество состоит из людей в процессе их перехода из разряда детей в разряд родителей. Чтобы обеспечить непрерывность традиции, общество должно заблаговременно готовить детей к функции родителей, а также заботиться о неизбежных остатках инфантильности у взрослых. Это — трудное дело, особенно если обществу требуется множество способных идти за лидером, малая доля способных вести за собой и какая-то часть тех, кто способен к тому и другому — попеременно или в различных сферах жизни» [59. С. 392—393].
По мнению пренатального психолога Г. Г. Филипповой «ситуация в современном евро-американском обществе может быть охарактеризована как «потеря пути к модели» материнства, сочетающаяся с расширением и появлением открытого содержания самой модели социально-комфортной сферы субъекта, не обеспеченной соответствующей моделью материнской потребностно-мотивационной сферы. В настоящее время наблюдается тенденция поиска нового «пути к модели», основанная на осознании как потребностей материнской сферы, так и особенностей психического развития ребенка» [48. С. 216]. Социально-политическая эмансипация женщин, и все более широкое вовлечение их в общественное производство, делает их семейные роли, включая материнство, не столь всеобъемлющими и, возможно, менее значимыми для них. Самоуважение женщины имеет, кроме материнства, многие другие основания — профессиональные достижения, социальную независимость, самостоятельно достигнутое, а не приобретенное благодаря замужеству общественное положение. Некоторые традиционно-материнские функции в институте семьи принимают на себя общественные институты и профессионалы (врачи, воспитатели, специализированные общественные учреждения и пр.). Это не отменяет ценности материнской любви и потребности в ней, но существенно изменяет характер материнского поведения. В последние десятилетия изменился образ ребенка в общественном европейском сознании: он стал мыслиться как докучливое, ненужное создание, которое стараются «отодвинуть» даже чисто физически, уменьшая количество и качество телесного контакта, делая воспитание ребенка подобным технологическому процессу, что можно оценить по возникновению движения чайлдфри и по распространенности Споковской модели воспитания ребенка, где считается нормой его нахождение в отдельной комнате с рождения и так называемое выкладывание на «выкрик». Спад рождаемости во всех странах Запада «связан с боязнью будущего, ростом мотивации личностного развития, желанием утвердить свое место в жизни, свою индивидуальность, иметь устойчивое социальное положение раньше, чем посвятить себя заботе о детях» [48. С. 9—10]. И это не смотря на то, что женщины по самой своей природе являются матерями, разве, что их специально будут учить отрицанию своих детородных качеств: «общество должно исказить их самосознание, извратить врожденные закономерности их развития, совершить целый ряд надругательств над ними при их воспитании, чтобы они перестали желать заботиться о своем ребенке, по крайней мере в течение нескольких лет, ибо они уже кормили его в течение девяти месяцев в надежном убежище своих тел» [30. С. 3].
В процессе человеческого становления женщина уходит от своих инстинктивных проявлений, как бы забывает свою животную природу, западная цивилизация, в своем превознесении интеллекта тоже работает в том же направлении отрыва от природных корней. По мнению Лоуэна, вера в то, что ум осуществляет контроль над поведением, является продуктом рассудка, который не в полной мере соединен с телом и его чувствами [27]. И неудивительно, что поскольку зачатие и рождение —это максимально природные и телесные процессы, то вмешательство в них рассудка, «общая направленность нашей культуры на мужской идеал» [3. С. 170], затрудняет, а то и полностью отменяет их осуществление. Происходит это потому, что в современной культуре, когда «многие замечательные женщины захвачены бессознательной идентификацией интеллекта и маскулинности» [28. С. 63], «ритмы женщины стали представляться досадной помехой, физическим дефектом, который необходимо заглушить, превзойти, выбросить из головы» [31. С. 172]. И именно эта попытка заглушить свои природные ритмы мстит нам, отзываясь повышением невротичности в обществе и спадом рождаемости.
Достаточно очевидно, что в рождении, уходе за младенцем и в воспитании мужчина и женщина имеют совершенно разные задачи, разные функции. Смешивание, смещение или потеря какой-либо из этих функций нарушает полноценность воспитания. Не замечается, что «психологические различия между мужчиной и женщиной объясняются, главным образом, потребностями в воспитании ребенка» [39. С. 724]. Можно высказать подозрение, что соответственно размывание различий между мужской и женской ролью в обществе способствует нарушению, как семейных связей, так и воспитательных традиций и установок на материнство, и через это идет и нарушение родового процесса. З. Фрейд в своей работе «Табу девственности» делает предположение о том, что дефлорация — это инициация по женскому типу, которая символически препятствует развития девушки в мужчину и тем предохраняет общество от развития в опасную сторону [51. С. 128—140]. Ему вторит Смирнов: «если юношеская инициация должна была разбудить в подростке Зверя, то женская инициация как раз и была направлена на то, чтобы убить в девушке Страшную Мать, подавить в ней мужское агрессивное начало и направить ее жизнь по вполне определенному женскому пути. Или, выражаясь языком Юнга, инициация должна была вытеснить и сделать бессознательным Анимус — мужскую сторону женской души. А дефлорация, отворяющая непостижимые врата, была телесным клеймом, физиологическим знаком этого перехода» [40]. То есть еще до момента зачатия первобытные общества были заинтересованы в том, чтобы у женщины был свой путь развития, отличный от мужского. Поскольку уже тогда было замечено, чтобы женщина успешно рожала ее надо «спрятать» от общества, дать ей путь становления, отличный от развития мужских задатков. Ибо «…открытие в себе какого-либо таланта приносит волнение, но вместе с тем приходит страх перед ответственностью и связанной с ним опасностями, необходимость быть лидером и быть абсолютно одиноким» [28. С. 63]. А женщине, в силу необходимости в процессе воспитания детей иметь привязанность, сосредоточенность на ребенке, чувствовать свою одинокость — противопоказано. Вполне вероятно, что только возращение женщине нормального ощущения ее женской сущности, пробуждение потребности быть матерью может благоприятствовать как восстановлению нормальной динамики родового процесса, так и способствовать воспитанию полноценных граждан. «В том же смысле оба пола и то, что они символизируют, — мужской и женский принципы в мире, во Вселенной и в каждом из нас — являются двумя полюсами, которые должны сохранить свои различия, свою противоположность, чтобы создать плодотворную динамику, производительную силу, которая соответствует этой полярности». [Фромм Э. Мужчина и женщина. М., 1998.].
Можно считать, что попытки, предпринятые феминистским движением, по отысканию альтернативного пути самореализации женщины в сближении и соперничестве с мужчинами привели к тому, что женщина потеряла собственное, достаточно почетное, место в мире. Изучение археологических находок показывает, что «образ и символ женщины-хранительницы “очага жизни” сплетены с образами и символами быка — олицетворением питающего человека “энергии природы” — столь же неразрывно, как соединялись они в постоянном соседстве в самых значимых местах пещерных галерей» [26], то есть в древнейшие времена понимание роли и места женщины в творении жизни выражалось в сакральности ее образа, благостности пищи, полученной из ее рук. И такое понимание функции женщины на данный момент обществом утрачено.
Поскольку женщина все в большей степени рассматривается обществом не как мать, а как работник на производстве, то соответственно формируется социальный заказ на воспитание в женщине тех качеств и той мотивации, которая позволила бы ей стать именно хорошей работницей. Наряду с этим происходит игнорированием воспитания у девочек материнских навыков в надежде, что материнская сфера в большей степени определяется инстинктом и разовьется как-нибудь сама. «Обученные и подготовленные к взрослому образу жизни, молодые матери вдруг обнаруживают, что они отрезаны от мира взрослых и снова замкнуты в мире детей. В противоположность им мужья остаются в мире взрослых и имеют возможность наслаждаться общением с детьми, приобретая дополнительные измерения в своей жизни. Жена же, у которой единственным собеседником становятся дети, чувствует себя дискомфортно, награждая себя ярлыком «всего-навсего» жены и матери.» [54. С. 683—684]. Женщине для своей самореализации не хватает способности «растворяться» в детях, умения радоваться их жизни. А ведь путь к вершинам удовлетворенности, счастья, радости лежит через развитие Духа, устремленность к полной интегрированности сознания и тела, индивидуацию и самоактуализацию, умение быть сосредоточенным на Другом [27, 28, 60, 45]. «Благославленная трудность семьи — в том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу нашей жизни — к Другому» [2. С. 104]. Адлер подчеркивает, что семья и брак — необходимые этапы воспитания чувства общности, которое необходимо человеку для выживания: «В понятие “человек” непременно заключено понятие “ближний”. Все предварительные условия физического и умственного развития содержатся в общности, создаются и культивируются сообразно его потребностям. Язык, разум, культура, этика, религия, национальность, государственность — все это социальные образования, которые проявляются как депозит общественности. Во всех этих формах жизни отражается бытие на земле, четко и определенно, словно принуждая человека к общности. Судьба людей не может свободно развиватся вне этих условий» [3. С. 162]. Э. Эриксон считал, что разные модели материнства приводят к тому, что «каждое поколение должно развиваться из своего детства и, преодолевая свой особый тип детства, должно развивать новый тип [человека], потенциально многообещающий — и потенциально опасный» [59. С. 393] и различие в социальном устройстве общества, обусловлено разницей такого воспитания. Философ и социолог Питирим Сорокин в своей концепции Любви, как главного инструмента развития и улучшения общества за счет гармонизации межиндивидуальных отношений, большое значение придавал семье: «Самопожертвование здесь [в семье] понимается как привилегия или свободный дар части целому» [22. С. 102], поскольку «мать или отец не ощущают, что “самопорабощение” ради детей является ограничением свободы; напротив, они счастливы этому и предпочитают его свободе бездельника» [Сорокин П. цит 22. С. 102]. Так же он считает, что именно такие качества, как сотрудничество и взаимная помощь послужили сохранению и развитию человеческого рода, и начало этих качеств лежит в детско-родительских взаимоотношениях. «Что касается отношений между родителями и детьми, тут, напротив, единство плоти и крови — в начале пути: но путь — снова и снова перерезание пуповины… Это испытание и для родителей, и для детей: заново принять как Другого — того, с кем когда-то составлял одно неразличимое целое в теплом мраке родового бытия» [2. С. 105]. Мне кажется, что распространение в обществе таких паттернов поведения, как нежелание иметь детей, отказ от ребенка, аборт — это предательство женщиной собственного тела, отказ от творчества, откат назад в развитии гуманизма.
Перед социумом, который хотел бы решить демографическую проблему встает задача кумуляции и трансляции положительного опыта самореализации женщины в детях. «Материнство есть жизненное призвание женщины, ее служение, в котором проявляется ее творческое начало. По своей природе, по своему прямому назначению в жизни, женщина является со-творцом и непосредственной продолжательницей великого дела Творца: через деторождение и воспитание человечества. Женщина созидает людей в самом точном смысле этого слова, вкладывая в этот труд всю полноту душевного и сердечного тепла. Сама при этом духовно возрастая». [33. С. 128] Этим словам вторит домашняя акушерка Молли Калигер: «Лучшим результатом нашей работы является самореализация нашей подопечной, как матери, женщины и человека — посредством деторождения. Ее самореализация открыта и достигается только ей самой, и только она сможет определить ее осуществление. Однако окружающие в этом процессе имеют колоссальное влияние на его течение» [взято с форума http://www.vis-vitalis.ru/forum/viewtopic.php?t=422)].
Подведя итоги можно сказать, что смена статуса, связанная с глобальной трансформацией личностных смыслов женщины в родах, трансовость, телесность, архетипичность их переживания, а также напряжение сил в околосмертном прорыве — все это позволяет считает роды – женской инициацией. И понимание родов, именно как узлового момента в становлении материнской роли женщины требуют относиться к подготовке женщины не столько к родам, сколько к ее последующей функции матери, развивать умение видеть в ребенке не столько частицу своего «Я», сколько отдельную личность, могущую иметь собственные потребности и желания. Когда у женщины происходит подобная перестройка психики, то это благотворно сказывается и на творческом потенциале самой женщины, и на развитии ребенка. И чем богаче будет мать по своему внутреннему миру, тем лучше она сможет передать эту полноту своему ребенку. И хочется верить, что наша культура сумеет отыскать тот путь материнства, где радость будет наиболее выражена в том, что с риском для нас самих мы согласимся на становление и развитие другой личности рядом с нами в акте самоотдающей и самоотверженной Любви.
|
| Вернуться к началу |
   |
|
Мрия
Человек Земли 2012


На сайте с 01.12.05
В дневниках: 950
Откуда: Шлюз, Н-ск
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 9:43

Список литературы
1. Абрамченко В. В. Коваленко Н. П. Перинатальная психология. Теория. Методология. Опыт. Петрозаводск, 2004.
2. Аверинцев С. С. Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взгляда на ве-щи. // Человек № 4, 2004.
3. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. М., 2002.
4. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания; методологические проблемы неклассической психологии. М., 2002.
5. Бабурин А. К. Роддиный обряд у славян и его место в жизненном цикле. // «Живая старина» №2, 1997.
6. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. С.-Пб., 1993.
7. Баранов Д. А. Родинный обряд: время, пространство, движение // «Родины, дети, по-витухи в традициях народной культуры» М., 2001.
8. Белковский С. А. Инициация взросления в различных культурах / http://www.follow.ru/article/265.
9. Белоусова Е. А. Родинный обряд // Современный городской фольклор. М., 2003.
10. Боровикова Н. В. (Москва) Психологические аспекты трансформации Я-концепции беременной женщины // Перинатальная психология и нервно-психическое развитие детей. Сборник материалов конференции по перинатальной психологии. СП-б, 1998.
11. Брутман В. И., Радионова М. С. Формирование привязанности матери к ребенку в период беременности. // Вопросы психологии, № 7, 1997.
12. Быстрова К. С., Widstro, m, А.-М., Lundh W., Воронцов И. М., Мухамедрахимов Р. Д. К обоснованию значения режимов общения матери и новорожденного ребенка для последующего развития и здоровья детей // Сборник материалов конференции «Пе-ринатальная психология в родовспоможении» Санкт-Петербург, 20—22 марта 1997 года. СП-б, 1997.
13. Васильева О. С., Могилевская Е. В. Групповая работа с беременными женщинами: социально-психологический аспект // Психологический журнал №1, 2001.
14. Геннеп, ван, А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 2002.
15. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М., 2005.
16. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
17. Дольто-Толич К. На путях рождения. Ижевск, 2003.
18. Дорошенко В. А. Инициация смерти, как необходимый «обряд перехода» // Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск. СПб., 1995 / http://anthropology.ru/ru/texts/doroshenko/tanatos5_1.html.
19. Ефимкина Р. П. Пробуждение Спящей Красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках. Новосибирск, 2006.
20. Захаров А. И. Ребенок до рождения и психотерапия последствий психических травм. СПб., 1998.
21. Захарова Е. И. Проблема содержания психологической подготовки к родам. // Меди-ко-психологические аспекты современной перинатологии: III Всероссийская научно-практическая конференция. М., 2001.
22. Зюзев Н. Философия любви Питирима Сорокина. Сыктыквар, 2000.
23. Ильясов Ф. Архетипы поло-репродуктивного поведения. // Человек. №2, 2005.
24. Костяев А. И. Ритуал — Тело — Культура. М., 2004.
25. Лебедев Ю. В. Натальная психология в современном мире // Теоретические и при-кладные аспекты перинатальной психологии: проблемы и перспективы Сборник ма-териалов Всероссийской научно-практической конференции 1—2 марта 2007 г., ч.2. Новосибирск, 2007.
26. Левин В. Библиографический репортаж из каменного века. // Человек № 6, 2005.
27. Лоуэн А. Психология тела. Биоэнергетический анализ тела. М. 2007.
28. Маслоу А. По направлению к психологии бытия, М. 2002.
29. Мещерякова С. Ю., Авдеева Н. Н., Ганошенко Н. И. Изучение психологической го-товности к материнству как фактора развития последующих взаимоотношений мате-ри и ребенка / www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=2548.
30. Мид М. «Культура и мир детства», М., 1989.
31. Мид М. Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющемся мире. М, 2002.
32. Моуди Р. Жизнь после жизни. М., 1999.
33. Носова П. А. Рождение в любви // Теоретические и прикладные аспекты перинаталь-ной психологии: проблемы и перспективы ч.2 Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 1—2 марта 2007 г., НГУ, 2007.
34. Оден М. Возрожденные роды М., 1994.
35. Пайнз Д. Беременность и материнство. // Психология и психоанализ беременности, Самара, 2003.
36. Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной. СПб., 1997.
37. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2004.
38. Симонов П. В. «Поисково-творческая роль доминанты в рефлекторной деятельности мозга: эволюционный подход» // Учение А. А. Ухтомского о доминанте и современ-ная нейробиология. Л., 1990.
39. Скиннер Р. Клииз Д. Семья и первый ребенок. // Психология и психоанализ беремен-ности. Самара, 2003.
40. Смирнов В. В. Эта операция зовется дефлорация. Женский вариант мифа. Тотем и та-бу девственности. / http://zhurnal.lib.ru/s/smirnow_wladimir_walentinowich/mif3.shtml.
41. Старцева Н. В., Швецов М. В. Влияние отрицательных эмоций на возникновение ги-пертонии беременных и их психотерапевтическая коррекция // Перинатальная пси-хология и нервно-психическое развитие детей. Сборник материалов конференции по перинатальной психологии. СП-б, 1998.
42. Тарт Ч. Измененные состояния сознания. М., 2003.
43. Тендрякова М. В. Первоботные возрастные инициации и их психологический аспект. Авторефрет диссертации. М., 1992.
44. Ухтомский А. А. Письма // Пути в незнаемое. М., 1973.
45. Ухтомский А. А.. Доминанта души. Рыбинск, 2000.
46. Федорова A.И. Сексуальная гармония в семье, как фактор рождения здорового ре-бенка // Сборник материалов конференции «Перинатальная психология в родовспо-можении» Санкт-Петербург, 20—22 марта 1997 года. СП-б, 1997.
47. Фельдейнкрайз М. Осознание через движение. М., 1994.
48. Филиппова Г. Г. Психология материнства. М., 2002.
49. Фирсова А. М. Социокультурная трансформация ритуалов и обрядов инициации в мировой традиции. Автореферат диссертации. Н. Новгород, 2005.
50. Франкл Д. Неизведанное Я. М., 2007.
51. Фрейд З. Табу девственности // Очерки по психологии сексуальности. Киев, 1990.
52. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СП-б, 1997
53. Хант Г. О природе сознания. М., 2004.
54. Хейли Дж., Эриксон М. Рождение ребенка и взаимодействие с ним. // Психология и психоанализ беременности. Самара, 2003.
55. Чухина А. А. Семантика запретов и предписаний для роженицы в ритуальном тексте родин. / http://www.ruthenia.ru/folklore/ls04_chuhina1.htm.
56. Шмурак Ю. Воспитание до рождения. Теоретические размышления. // http://www.psymama.ru/articles/shmurak1.html
57. Щепанская Т. Б. Сокровенное материнство // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996.
58. Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения М.-СПб, 1999.
59. Эриксон Э. Детство и общество. СП-б., 2002.
60. Юнг К. Г. Архетип и символ (сборник статей). / http://www.wanderer.org.ua/book/ psy/jung/arch_sym.htm
61. Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий. М.: Медиум, 1994 |
| Вернуться к началу |
   |
|
Стасенька
Многодетная искорка


На сайте с 15.04.08
В дневниках: 10335
Откуда: Екатеринбург
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 16:49

Осилила пока только первые две части (коммента). В первой некоторые мысле были довольно новыми и интересными
| Цитата: | Роды учат подчинению и принятию, через терпение и смирение. Они дают нам возможность этому учиться, чтобы применять добродетели в нашей жизни. Бог дал жен-щинам возможность рожать для того, чтобы они учились принимать не свою волю, а Его.
Роды даются поэтапно. На каждом этапе женщина учится принимать, отдавать, и не сопротивляться, — затем начинается новый этап, еще тяжелее, чем предыдущий. Пока не накопится критическая масса одного этапа, она не проходит в следующий. Чем легче она принимает процесс, тем быстрее он идет.
Роженица "умирает", она жертвует свое “Я” и становится частью только общего божественного. Это происходит очень постепенно, так, чтобы к концу родов, когда рас-крытие полное и ребенок начинает опускаться, она уже находится “не в мире сего”, будто она соединилась с Богом. В этот период она дремлет между схватками.
К тому времени начинаются настоящие потуги, и она уже способна с ними рабо-тать, она уже, фактически, наполовину переобразована. Родив ребенка она сама умирает как девица, и рождается как мать.
Вот самая страшная реальность родов: мы встречаемся, лицо к лицу, наши недос-татки, наши страхи. Сопротивление схваткам исходит от эгоизма: нежелание принять дру-гого (в конце концов, волю Божию). Это выражается как упрямство, раздражительность, гнев, нетерпение, даже ненависть.
Женщины, воспитанные в духе добродетелей и в страхе Божием, рожают легче, так как они привыкли применять определенный настрой во всем. К сожалению, большинство современных женщин воспитаны в другом: удовлетворение желаний, сильное выражение собственной “Я”, — защита своих “прав” (которая учат найти виноватых). Роды даются ТОЛЬКО ВАМ, для Вашего собственного душевного развития. |
И вообще очень интересная тема. Хотя да, слитности кое-где действительно не хватает  Может, в следующий раз будешь выкладывать перед тем, как сдать? Может, в следующий раз будешь выкладывать перед тем, как сдать?  |
| Вернуться к началу |
   |
|
ТётяИра
Академик
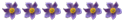

На сайте с 08.02.08
В дневниках: 17438
Откуда: Нск, ККП
|
 Добавлено: Ср Сен 23, 2009 20:54
а меня напрягают "-" переносы в словах...
прям нить смысла утрачивается... пока прочитываю, выбрасывая бессмысленные переносы  |
| Вернуться к началу |
    |
|
Золотая нить
Академик
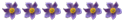

На сайте с 14.04.09
В дневниках: 11128
Откуда: Железнодорожная 8/1
|
 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 9:26
Мрия
интересно, но для меня простите мудреный текст 
Все не осилила 
|
| Вернуться к началу |
   |
|
Taliya
Академик
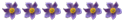
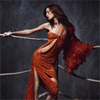
На сайте с 08.11.05
В дневниках: 4461
Откуда: Набережная
|
 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 12:35
интересно. возникли вопросы: второй раз приехала с полным раскрытием сама уже. и практически не заметила, что уже пора. Но не сказала бы про себя:"воспитанные в духе добродетелей и в страхе Божием". 
и еще как вы относитесь к усыновлению. И каково тогда в нем становление материнства?
По крайней мере я так вижу прочитанное, что возникли вопросы. Осилила вроде все. Только отвлекали детки часто.  |
| Вернуться к началу |
   |
|
Мария Земцова
Студент
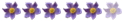

На сайте с 28.03.06
В дневниках: 427
Откуда: NewСибирск, Железнодорожка
|
 Добавлено: Чт Сен 24, 2009 15:20
Мрия, блиииин.... Мозг мой отказывается воспринимать научную терминологию... Пока не хочу читать, прости.
Постараюсь в ближайшее время.  |
| Вернуться к началу |
    |
|
|
|
 Настроение: Счастливое ]
Настроение: Счастливое ]








 Может, в следующий раз будешь выкладывать перед тем, как сдать?
Может, в следующий раз будешь выкладывать перед тем, как сдать?